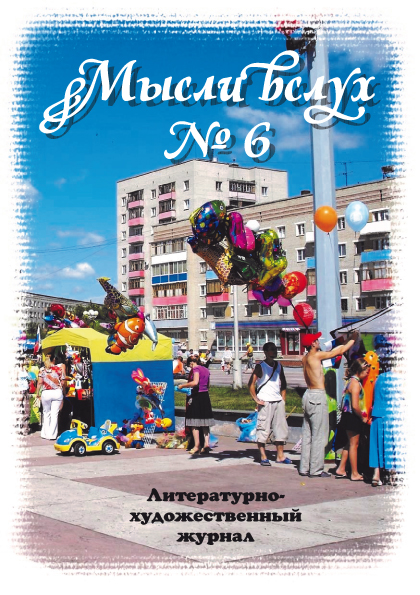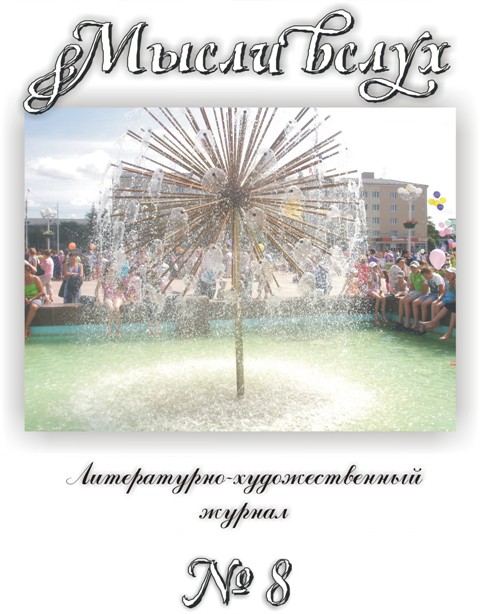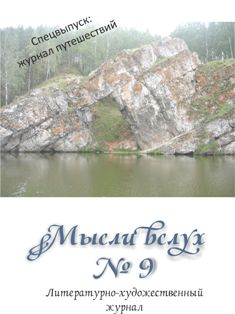Предкам
моим, близким и далеким, с поклоном…
Я не был там очень давно, с
самого детства, и теперь отчаянно плутал в русском хаосе полевых дорог. Мой
"Мерседес” вот уже не первый час, тихонько постанывая, обреченно царапал свое
холеное городское пузо о пыльный хребет глубокой колеи. Колхозные поля в этом
году не сеяли совсем, не было семян и горючего. Некошеные луга с сохнущей
перестоялой августовской травищей в человеческий рост обступали мой автомобиль.
Луга мягко перетекали в лесные полянки, колки – в солнечный березняк. Я
углубился в лес, понял, что вновь ошибся дорогой и заглушил мотор. Я вылез из
машины и ступил на землю. И вмиг до слез вспомнилось вдруг, как бабушка, умирая
в городской квартире, все просила отвезти ее в деревню, чтобы "походить по
земле”. Мягкая она, полевая дорога, идешь по пыли, точно по одеялу ступаешь, и
ноги словно сами шагают, силы в них появляются живые, травные, росные… Эх,
бабушка, бабушка, нет тебя больше… А была – и не замечал, что есть…
Щебетали на разные голоса
незнакомые, словно бы из минувшего столетия, птицы. Стелились вокруг
неизвестные мне травы. Из-под колеса машины выглядывали, обняв друг друга
листьями, клевер и подорожник. Прямо перед капотом замер, чудом не смятый, серо-зеленый
стебелек с колосистой вразлет маковкой, словно последний воин, остановивший
стальное городское чудовище. Я забыл имя этого стебелька, а быть может, и не
знал никогда. Но в детстве летом мы с друзьями звали такие колоски "петушками”.
Была такая нехитрая игра. Спрашиваешь у приятеля: "Петух или курица?”. Он
отвечает, а ты зажимаешь двумя пальцами стебелек и скользом к маковке обрываешь
продолговатые семена. Если пушистый, длиннохвостый вышел пучок, значит – петух,
а если коротенький да ровненький – то курица.
Отошел два шага от дороги –
нашел в траве хлипкий кустик клубники с бурой, давно иссохшей и чудом не
отпавшей от него ягодкой. И страшно стало. До ужаса в затылке похолодело. Ведь
ни души кругом! И словно кто-то ходит рядом, вокруг меня ходит и за стволами
прячется. Чужой я в этом лесу, чужой, не понять мне ни красоты его, ни величия.
Животный суеверный беспричинный страх, кружа, словно бы запрещал мне
прикоснуться к ненайденной мною святыне, что укрылась где-то поблизости.
Трусливым иномирцем я сбегал,
словно с чужой земли, словно самоуверенный захватчик, словно лжец из древнего
храма. Будто я заглянул в глаза Богоматери на лике и солгал, будто бы понял
ложь свою и ужаснулся ей…
Не щадя машины, что билась
брюхом о камни и кочки, я выжимал педаль газа, желая лишь как можно быстрее
увидеть живого человека. Какая-то неведомая сила не пустила меня, праздного,
живого, бессмиренного к своему бессмертному роднику. Охваченный страхом, я
заблудился и никак не мог найти той дороги, что выводила на асфальтированную
трассу, ведшую в село.
Вечерело. Я метался в
бесконечных и бессмысленных поворотах и перекрестках, пока вдруг не заметил
идущего навстречу человека. Это был седой длиннобородый и тем чрезвычайно
колоритный худой и невысокий старичок, тип "лешака”. В выцветших растянутых
трико, в бусом пропыленном пиджачонке он шел с огромным, годным на удочку
прутом посреди дороги, хлопая и пыля старыми, обутыми на босу ногу калошами.
Поравнявшись с ним, я остановил машину:
– Здравствуйте…
– Здравствуй, – кивнул он,
пристрастно разглядывая меня и мой ярко-красный "Мерседес”.
– Не подскажете, как на
трассу выехать? – спрашиваю.
– Езжай, – отвечает, –
прямо, вот и будет тебе трасса. А ты чей будешь?
Поколебавшись почему-то
мгновение я как-то неловко ответил:
– Сергей я. Кузнецовых внук…
– и смущенно, ибо никогда раньше не приходилось так называть деда да бабушку,
добавил "по-взрослому”, – Катерины и Ивана.
Старик с интересом впился в
меня неожиданно суровым оценивающим взглядом и, оценив, оттаял, одобрительно
сообщив:
– А ты находишь на Ивана-то…
Ну а я – Николай Васильевич, помнишь, может? Я-то тебя еще маленького помню. С
нашими ребятишками играл.
Все внуки деревни, приезжая
на лето, играли вместе. Я силился вспомнить, чьим же дедом был этот, и не мог.
Все сухощавые бородатые старики, дожив лет до семидесяти пяти отчего-то
становились похожими друг на друга. И в лице этого Николая Васильевича я
узнавал черты всех деревенских фамилий, тесно перероднившихся друг с другом за
век соседства и товарищества. Тем временем старик с надеждой ждал, что я его
узнаю и, наконец, не дождавшись, сообщил с той простотой, от которой сразу
становится смешно и тепло:
– Ну, Сивушкó я… А у меня корова паслась,
да ушлялась опять куда-то, блудная. Повадилась на лужок ходить… Видать трава ей
тáма слаще…. Точно с сахаром ей тама намешали… Вот старуха и говорит:
иди, гони домой, а то потёмки… Доить-то в потёмках неловко… – И внезапно
спохватился: – А ты теперь где ночуешь-то?
– В машине, – ответил я.
– Так поезжай к нам. Чо
одному-то? Нам со старухой вдвоем скучно. Сашка приезжал всего на неделю, да уж
уехал. – Я понял, что это был дед Сашки Сивушко, того самого, который
давным-давно едва не утонул в озере. И я с остальными мальчишками нырял на
глубину, дрожа от страха и холода родниковой воды. Сашку мы спасли и поклялись
не рассказывать об этом взрослым, а то заругают и, чего доброго, запретят
купаться.
Сашку Сивушко за странную
фамилию звали Сивухой. Он обижался и затевал драку. И вот однажды, когда внук в
очередной раз вернулся в синяках и ссадинах, дед Николай, чинно усевшись у
забора на лавку, с гордостью рассказал нам, мальчишкам, сказку, в которой
говорилось, будто фамилия их необыкновенная и происходит от волшебной лошади
неведомой масти с сивым ухом, от которой и произошел первый в роду Сивушко.
"Кобыла эта была навроде теперешней Сивки-Бурки”, – заключил тогда старик и
Сашку стали звать Сивкой.
– Помнишь, где дом-то наш? –
перебил мои воспоминания дед Николай.
Я не успел ответить, и он,
выставив перед собой ладонь и, порывисто жестикулируя ею, принялся объяснять:
– Вот на трассу выберешься,
до села… И второй поворот направо. А там – по левой стороне шестой дом, не
промахнешься. Поезжай, а я щас, вот корову пригоню…
Он пошел искать свою
"блудную” Зорьку, а я решил его подождать. Как-то неловко было ехать одному в
чужой дом, бабуля Сивушко меня, конечно, не узнает… Через четверть часа дед
Николай вернулся, весело отчитывая рогатую толстую рыжую коровищу, которая
устало топала впереди и время от времени снисходительно косилась на старика.
…В село мы с дедом Николаем
въехали в машине. А корова брела впереди, беспокойно оглядываясь на свой чудной
и нелепый пыльно-красный эскорт иностранного производства.
Процессия сия заинтересовала
людей. Увидев незнакомую неместную машину, они спрашивали друг у друга, кто да
чей, да к кому это может быть. У дома дед Николай барином вылез из машины: ко
мне, мол, чего глазеете. И, хитро взглянув на меня, сказал:
– Хорошая машина. – И
неуверенно добавил: – Только шибко аляпая… Так только, для форсу если, в
городе… А у нас… – И тогда я почувствовал всю неуместность слишком истошного
вопяще-городского цвета своего "Мерседеса”, всю его неискренность и
нарочитость, и стало отчего-то совестно. Я невольно опустил глаза, а старик,
ничего не заметив, продолжал: – У Сашки тож машина какая-то… Черт ее поймет,
американская. – Определение "американская” дед Николай давал всем новым и
малопонятным для него вещам. – Но тож красивая. Навроде как у тебя, только
белая…
Тем временем на звук мотора
выбежала бабушка Сашки Сивушко, баба Рая, и, увидев меня, замерла в воротах:
– Здрасьт… – удивленно
кивнула она на мое приветствие и, приставив ладонь козырьком к бровям, словно
глядеть приходилось вдаль или против солнца, принялась из-под нее рассматривать
меня.
– Не узнала? – захорохорился
дед Николай. – Сережка Кузнецов, Иванов внук. В лугах заплутал. А я тож не
узнал сразу. А потом думаю: вроде как находит на Ивана!..
Старик Сивушко все говорил и
говорил, старуха его не слушала, только расплылась в улыбке и, как родного,
обняла, повела в избу. Она не удивилась тому, что я здесь, ничего не спросила и
только, как-то жалеючи взглянув на меня, тихо вздохнула: "Вот и нет уж никого,
ни деда, ни бабы… Жили, наживали, и отжили”. И уже громче спросила:
– На кладбище-то был?
– Был, конечно, – отвечаю. –
Я днем сегодня приехал.
– И мы вот, Сашка приезжал,
ходили… Травку там подёргали, позаросли все…
Пёс у крыльца начал рваться
с цепи, лай взлетал до фальцета, пес видел меня, чужого, и захлебывался
злостью.
– Да замолчи ты! Свои! –
грозно топнула на него баба Рая, и он, для верности окинув меня взглядом с ног
до головы, притих.
Зачем я приехал сюда, по
совести, не знал. Но что-то потянуло сесть за руль, отмахать спозаранку двести
километров, чтобы посетить погост. Зачем? И что-то внутри меня настойчиво и как-то
поучительно отвечало: "Надо”. Может стареть начал, раз в руины потянуло? Да,
вроде бы, рано еще… Нет, то было не старение, то была потребность укорениться.
…И дед Николай уже истопил
баню. И баба Рая уже подоила корову и "наварила картошек” на ужин, и они
оказались такими сладкими и добрыми с молоком и хлебом домашней выпечки, что
мне даже идиллически подумалось, что вкуснее этой обычной картошки и
черствеющего хлеба я уже очень давно ничего не ел, и вкуснее этого молока
ничего с самого детства не пил. Молоко было парным, теплым, густым, пахло
нежностью, чистым телом и утренней травой.
За ужином баба Рая спросила:
– Не женился еще?
– Нет, – отвечаю.
– А Сашка наш в прошлом
году. Свадьбу сыграли, мы с дедом тоже ездили. Они уж вот с дочкой приезжали, полтора
месяца всего.
Улеглись спать. И в темноте,
уже засыпая, дед Николай спохватился:
– Сережка, – тихо позвал он
меня.
– Чего? – спрашиваю.
– А ты чего в лугах
делал-то? На Зайсáн дорогу, что ли, искал?
– На Зайсан. Да только не
нашел я дороги, заблудился. Часа два плутал.
– Заросла дорога. Никто не
ездит. Я завтра коня запрягу, поедем… В прошлом году запахали дорогу, а в этом
поле не сеяно, не пахано. А по пахоте, хоть и по старой, только машину гробить…
– Он зевнул. – Ну, спи, Сережка, спи…
Мне не спалось. Зайсан был
старой деревней, что находилась отсюда километрах в десяти. Точнее, это была
уже не деревня, а лишь место, где она некогда находилась. Кусты ирги, смородины
и черемухи обозначали места, где некогда стояли дома. Там, в Зайсане, родилась моя
бабушка, там жили ее бабушка и дедушка, там они и умерли, где-то там и лежат на
позабытом-позаброшенном кладбище. Старые дичающие садочки, одиноко гниющие
столбы, ширящиеся с каждым годом лога да заброшенные поля – вот и все, что
осталось от большого села, исчезнувшего в далекие пятидесятые годы.
Это то, что я помнил. Пока
бабушка была жива, она любила туда ездить, рассказывала, где чей дом стоял, где
какая улица тянулась. В раннем детстве я застал еще и дом, в котором выросла
бабушка. Он стоял одинокий, холодный, словно иссохший, обветренный брошенный
корабельный остов. Кто-то тогда взял меня на руки, поставил в оконный проем, и
я заглянул в черноту и сырость брошенного жилища. Только вздыбленный прогнивший
пол вспоминается мне теперь, только бездна вскрытого подполья… Потом говорили,
что дом сгорел. Кто-то поджег…
"Хорошая была деревня,
веселая, – вспоминала бабушка, – песни пели…” Я уснул, и мне снились зрелые
августовские поля, зачинающиеся сумерки, слышалась ленивая собачья брехня по
дворам, какая-то до боли знакомая бабушкина песня, слов которой было не
разобрать, и далекая, сливающаяся с посвистыванием сверчков, тихая гармонь… И
снова я был маленьким, и будто снова бабушка сварливо шептала деду: "Тише ты
говори, ребятишек разбудишь…”
"Тише ты, разбудишь
парнишку”, – услышал я сердитый шепот бабы Раи и проснулся. Дед Николай
приглушенно бубнил в кухне:
– Вот уж и опять холодает по
утрам… Даве управлялся, Быкова Ольга увидала меня в ограде, подошла да
спрашиват, кто, мол, приехал вчера. Так и так, говорю, Сережка. Она головой
покачала, да и заревела опять. Домой пошла…
– Ну, так ты б не говорил.
– Как я "не говорил бы”? Чо
я ей скажу, если спрашиват? – горестно сокрушался старик.
Быкова Ольга, "тёть Оля”,
была матерью местного мальчишки Вовки Быкова. И с ним я в детстве играл здесь в
"казаки-разбойники”. Мы с Вовкой, было дело, даже считались друзьями… Но вся
наша дружба сводилась лишь к совместным утренним рыбалкам.
Управившись с хозяйством,
дед Николай, запряг свою Карьку, и мы с ним поехали искать дорогу в Зайсан.
Пока ехали через село, старик молчал, точно не решаясь заговорить. Наконец
решился:
– Есть еще, говорят, дорога
в объезд, по трассе – вокруг, с другой стороны… Но, я думаю, километров
восемьдесят этого объезду будет. А тут, если как раньше, напрямки – так не больше десяти… Может, двенадцать…
Он говорил это как-то
нарочито громко, не глядя на меня, и мне показалось, что не о дороге думал он.
С его языка хотело сорваться нечто иное, но он словно боялся заговорить об
этом. С километр проехали молча.
– Вовку Быкова помнишь? –
решительно спросил он вдруг.
– Помню, – ответил я и вмиг
вспомнил его утренний разговор с бабой Раей и догадался о том, что он хочет
сказать.
– Схоронили прошлой еще
весной. Забрали в армию. Там и погиб. Мать его с того времени и стала, как
помешанная… Он же у нее один был. Приходила сегодня, о тебе расспрашивала.
…Я промолчал. Вовка был на
два года младше меня… Тем временем мы свернули с трассы на полевую дорогу, где
я вчера встретил деда Николая. Тут он кивнул на небольшой овражек слева и
сообщил.
– Вот он, Петькин овражек…
– Какой "Петькин овражек”?
– Гришкин Петька на
мотоцикле тут разбился. Недавно, этим уж летом. Жена осталась. Только женился…
Петька был моим ровесником…
– А Ленка замуж вышла, сын у
нее, второго ждут. Хотят в город уезжать. А и правильно. Что тут делать? Нам,
старикам, доживать. Ведь еслив чо, то и фельшера нет, никого. Хошь – живи, хошь
– помирай, все одно – никому не нужен. Колхоз развалился окончательно…
Вдруг он остановил коня,
телега, скрипнув, замерла на месте. Дед Николай оглядел округу и, чуть подумав,
сообщил:
– Где-то здесь была дорога,
– указал он на стену неведомой мне сохнущей травы, – как раз вон на тот околок
выходила, правее его… Но! – натянул он вожжи и стал заворачивать Карьку с
дороги в заросли. Кобылка удивленно оглянулась и неспешно потянула за собой
телегу, приминая хрустящие стебли. – Эх, какое сено погибло!.. – грустил дед
Николай. – Мы здесь, бывало, вручную, литовками, и околки даже выкашивали…
– Так здесь же поле было, а
не покосы, – поддержал я разговор.
– Но-о-о, – соглашался он. –
Тут поле, полоса была, а тама – вон, чуть подале, так то покосы колхозные…
Наконец луг плавно перешел в
череду разнотравных полянок, меж которых тянулась межа, густо заросшая
конотопом и подорожником – первый признак старой дороги. Так и поехали. По
низкому кудрявому конотопу лошадка пошла рысью, и стало весело. Дед Николай
принялся-было что-то насвистывать, но зубные протезы мешали чистоте звука, и он,
махнув рукой, задумчиво затих.
В перелесках настойчиво
искали смерти крупные рыжеватые комары. Дед Николай заботливо сгонял вожжами
паутов с тугого конского крупа. Я опасался, что меня укусит какая-нибудь
летучая мелочь, и поэтому усердно уворачивался от насекомых.
Несколько раз в детстве я
ездил этой дорогой, но теперь не мог вспомнить ни одного куста, ни одного
знакомого дерева. Все здесь было теперь для меня новым, все было тою загадочной
бессмертной простотой, к которой мое сердце жаждало припасть.
…Вскоре вдали завиднелись
огромные лога, вдоль дороги, приветствуя, склонились дичающие ветви ирги и
черемухи – стареющие ошмётки былых садов. Жадное комарьё бесцеремонно лезло
кусаться. Карька то и дело обмахивалась своим знатным хвостом.
Дед Николай, привязав лошадь
к гнилому столбу, отправился проводить ревизию черемухи, которая, судя по его
невнятному бормотанию, в этот год хорошо уродилась. Я же смиренно бродил по
округе, пытаясь угадать то место, где стоял дом, в котором выросла моя бабушка.
Я шел по траве, и она мягко приминалась, чуть похрустывая, под моими ногами.
Шел, пока не остановился на краю огромного оврага, на дне которого светлело
иссохшее пятно белой глины.
– Пруд здесь был. Пересох,
видать, – прокомментировал подкравшийся сзади дед Николай и, точно стесняясь
своей заботливости, нерешительно добавил: – Ты, это, на краю-то не стой.
Обвалится – не дорого возьмет…
Я послушно отступил на шаг
назад.
– Растут лога, – кивнул дед
Николай на стоявший неподалеку, тоже на краю обрыва, куст ирги, свесивший над
склоном половину своих корней. Была в этом кусте, пересохшей реке и заросшей
дороге какая-то особенная, пронзительно-светлая романтика. И солнце светило
здесь не во имя одиночества, а во имя приобщения.
– А бабушкин дом не здесь
стоял? – спросил я деда Николая. Уж больно понравился мне куст, нависающий над
солнечно-желтой глиняной бездной.
– Не знаю, – отозвался
старик и, подумав, вспомнил. – Она говорила, что у них рябина росла в саду. –
Он оглядел округу. – Поискать надо рябинку. Где она, там и был их дом… Долго
стоял, да сжег кто-то. Пожар здесь был, кладбище тоже горело.
– А где оно?
– А по ту сторону лога.
Видишь околок березовый? Оно и есть. А ты, что ли, и туда собрался? – Дед
Николай заглянул в овраг и сердито обратился ко мне таким тоном, точно я был
дитя неразумное: – Через овраг, напрямую я тебя не пущу. Склон-то крутой –
чисто обрыв. Та сторона, вроде, пополóже, но тоже не сильно
разбежишься. Если только в обход. Пойдем, а то еще заблудишься. И, это, брюки в
носки заправь, в траве всякие водятся… змеи, клещи, насекомые. За мной иди.
Мы пошли по-над логом,
огибая его.
– Сережка! – через несколько
минут окликнул меня дед Николай и оглянулся: –Идешь?
– Иду, – отозвался я.
– Скажи, а что ты там
увидеть хошь? Кресты-то и те на могилках, если не сгнили, то сгорели. Там и
могилок-то уже не различить, наверное…
– Не знаю. Тянет что-то.
Потребность есть… – Я помедлил и все же добавил показавшуюся мне чересчур
громкой фразу: – Поклониться им, бабушкиным деду да бабке.
– А на что тебе им
кланяться? – Неожиданно строго спросил дед Николай. – Ты хоть имена-то их
знаешь?
– Знаю, – чуть обиделся я на
его тон. – Дед Максимом был, бабушка… – я понял, что забыл ее имя, – Пелагея…
или Прасковья… – Мне стало стыдно и я признался: – Забыл.
– Полиной ее звали, бабкой
Полиной. Я еще парнишкой совсем был, помню ее. Хорошая бабка была, добрая…
Часто ребятишек, своих, чужих – все равно – привечала.
…Кладбищенский околок оказался на удивление
сумрачным. Старые березы, точно липы над аллеями в старых поместьях, тесно переплелись
кронами; навек переплелись… Трава на бугристой неровной земле была густой,
низкой, сильные сытые стебли тесно жались друг к другу.
"Бабушка с дедушкой там, под
культяпой березкой, рядом лежат”, – вспомнил я бабушкины слова. Но как отыскать
эту самую березку? Я решительно не мог разобраться, какому из этих кривых
стволов больше подходит эпитет "культяпая”.
– Дед Николай, какая из этих
берез культяпая?
– Не знаю… а на что тебе?
– Бабушка говорила, под ней
они…
– Не знаю я… Все они
по-своему культяпые, какую ни возьми.
Я почувствовал отчетливую
потребность войти вглубь околка, точно позвал меня кто-то, тихо и ласково. Та
самая сила, которая не пустила сюда вчера меня, бессмиренного и городского,
приветила сегодня меня, пешего и робеющего.
Я посмотрел под ноги, и
шагнул между, как мне показалось, двух бугорков. Дед Николай ухватил меня за
рукав и потянул назад:
– Чо, совсем ума нет?! Здесь
не поймешь, где межа, где могила! И провалиться не долго…
Я поднял глаза и замер: в
глубине кладбища, под одной из берез, что высилась меж двух черных пней, стояла
серая собака и глядела прямо на меня.
– Волк?! – прошептал я деду
Николаю.
Он сразу встрепенулся и
шепотом спросил:
– Где?
– Там, под березой… Под
культяпой.
Дед Николай обшарил взглядом
округу и, тихонько матюгнувшись, принялся приговаривать: "Святой Георгий,
обереги меня от зверя лютого, от зверя злого, от хорта с хортенятами”.
– Стой, Сережа, не двигайся,
– шептал он мне и вновь повторял свой заговор.
Волк долго стоял неподвижно,
словно чего-то ждал, вперив в меня свой пронизывающий допрашивающий взгляд.
Наконец он развернулся и пошел от нас прочь.
– Пошли, пошли отсюда, –
заторопил дед Николай, подталкивая меня, – Иди, иди вперед быстрее. – Он
беспокоился о Карьке, что паслась на другой стороне оврага.
– Откуда здесь волки-то? –
спросил я.
– Места-то нежилые… –
неопределенно объяснил дед Николай.
…На обратном пути дед
Николай рассказал, что зимой волки подходили к самому селу, выли аж у самых
огородов. В Петькином овражке мужики убили волчицу и целый выводок щенят.
В селе домой поехали не
сразу, а остановились у озера напоить коня. Где-то здесь я купался в детстве.
Тогда вода была хоть и не голубая, но зеленоватая, теперь же она желтела,
мутнела, и не то что человеческие лица, но даже небо уже с трудом отражалось в
ней. Конечно, стоял август, вода начала цвести, но все же… Слишком сильно былое
озеро напоминало болото. Вода пахла чем-то тухлым.
– Не налилось озеро в этом
году весной. Думали, совсем пересохнет. Лужа вот осталась.
Озеро стало раза в три меньше
того, что помнилось мне из детства.
– Знаешь, Сережка, говорят,
что пруды и озера вымирают вместе с людьми… Высыхают или заболачиваются… –
грустил дед Николай. – Видать, верно говорят…
– А купаются сейчас в озере?
– Купались летом. Щас-то уж
поздно. Зацвела вода. Искупаться, что ли, хочешь?
– Да, – признался я.
– Лишая какого-нибудь
подхватишь, – предупредил дед Николай.
– В природе все стерильно, –
возразил ему я, окинул критическим взглядом теплую жижу озера и, раздевшись,
решительно вошел в его воды, словно принимая крещение.
…Под вечерние сумерки я
засобирался в город. Кончалось воскресенье, завтра нужно было идти на работу.
Завтрашнее городское утро будет таким же, как и множество до него: выстывшим,
туманным и суетливым. Завтра мой внезапный вояж будет казаться либо нелепой
глупостью, либо идиллическим сном…
– Ведь в потёмках уж в
город-то приедешь, – переживала баба Рая. – И дорога лесом… Да один еще едешь.
Сейчас столько всяких бывает… Страшно ведь. Может, все-таки утром бы поехал? –
призывала она меня к здравомыслию. – Или бы уж ехал пока светло было. А то
дождался темноты…
– Сколь ехать-то будешь? –
деловито осведомился дед Николай, скрывая тревогу.
– Часа три с половиной,
может, четыре.
– Ты приезжай когда… –
бормотал старик, не зная, что бы еще сказать. – Ну, давай, поезжай, а то
темняется… Матери с отцом привет передавай.
– Сережа, я тут Сашкин адрес
тебе написала и телефон, – тихо говорила баба Рая, она уже начала скучать по
внуку, да и по мне, наверное, тоже. – Он был, дак спрашивал про тебя. Может,
встретитесь когда. – И она протянула мне уголок газеты, на котором химическим
карандашом были выведены кособокие подслеповатые строчки.
– Баб Рай, спасибо вам с
дедом. Ты возьми вот, пожалуйста… – я осторожно подал ей свернутую пополам
тысячную банкноту, которую в городе в шутку звали "рублём”: столь быстро она
испарялась в магазинах и ларьках.
Баба Рая взглянула на меня
так, что мне стало стыдно, и я, словно школьник, уперся взглядом в землю, но
повторил:
– Возьми, баб Рай…
– Ишшо чо выдумал?! – обиделась
она. – Что мы, чужие, что ли? Сроду ребятишки росли, так не делили на своих и
чужих. Все свои были. Прибежит, бывало, орава: свои, соседские… Всех кормили,
жалко ли… Все так жили. Не люди, что ли? Убери сейчас же! – Она выдернула у
меня из рук бумажку и засунула мне в карман. – Ну, поезжай, а то дотянешь
совсем до темноты. Поезжай, поезжай, – подтолкнула она меня к машине.
И я поехал… Зеркало заднего
вида отразило мне две низенькие старческие фигуры, сиротливо остающиеся
доживать. Баба Рая подняла руку и щедрым, размашистым движением ласково
перекрестила меня вслед, что-то зашептав. Наверное, и Сашку она провожала
также… Помахала рукой и краешком платка принялась вытирать глаза – заплакала.
На повороте я посигналил им,
окинул в последний раз фотографирующим взглядом, запоминая навек, и впился
глазами вперед, тщетно пытаясь убедить себя в том, что родина моя – город, ибо
там я впервые вздохнул, пошел в школу и полюбил. Я знал, что сюда больше не
вернусь, а если и вернусь, то не скоро. Никто меня здесь не узнает, и уже вряд
ли вспомнит, и дед Николай с бабой Раей займут свои вечные травные постели. И
я, конечно же, так и не решусь позвонить Сашке, и уж, тем паче, заявиться к
нему в гости. Идя друг другу навстречу там, на городских улицах, мы не заметим
друг друга, а заметив, вряд ли узнаем.
"Озера вымирают вместе с
людьми…” И все-таки, грусть моя была светлой. Пусть, быть может, и сюда, как и
в Зайсан, одной из вёсен густо зарастет дорога и сольется с лугами и непахаными
полями. Пусть вместо людей, словно духи предков, в садах будут ходить волки. В
конце концов, быть может, так надо, быть может, так должно быть: прошлое
умолкает и растворяется в травах… Но, все же, мы увереннее и тверже шагнем
вперед, в ночь, на дальнюю, по-русски ухабистую и причудливо извилистую дорогу,
зная, что за спиною – корни наши, которые мы не вправе ни забыть, ни поменять,
ни обесчестить. И корни эти подобны двум незримым крылам за нашими спинами,
крылам, которые однажды унесут и нас на другой берег Леты, за степенные воды, в
цветущие плодоносные сады.
…Я глядел сквозь лобовое
стекло во мрак будущего мгновения и чувствовал, что, прячась за каждым
разлапистым березовым стволом, за каждым холмиком, хоронясь в каждом овражке,
бежит вдоль дороги тот самый, виденный утром, старый волк, оберегая меня… И
было стыдно. Ладони словно обжигались о руль, иноземная строптивая машина
ревела всем своим нутром, страдая от русской ностальгической прелести пыльной
щебневой дороги, а в кармане рубашки проедала душу голубенькая, сложенная
пополам полоска бумаги с ледяной надписью "тысяча рублей”.
…Подъезжая к городу, я
взялся за телефон. Индикатор сети только-только начал проклевываться на
крохотном светящемся экранчике, но ждать я почему-то не мог.
– Здравствуй, Лиза. Это я.
– Привет! – Я почувствовал,
что там, в сорока минутах от меня, она улыбается.
– Не спишь еще?
– Нет. Ты уже приехал?
– Нет еще. Просто ты очень
нужна мне, Лиза.
– Что-то случилось? –
встревожилась она от моей неосторожной фразы.
– Да. Я кое-что понял и
боюсь забыть, боюсь осмыслить и не поверить себе.
– Что случилось, Сережа? –
тревожилась она.
– Что там с ним? – услышал я
в трубке глухой недовольный голос ее отца.
– Лиза, я хочу, чтобы ты
стала моей женой. Чтобы дети, понимаешь, чтобы собаки, внуки, чтобы стареть
вместе!.. Потому что так надо, так повелось, так правильно.
…Потому что так нам тепло в
росной зябкости утра, и тьма становится сестрою света. И в пути нашем мы не
одиноки.
Все березы похожи друг на
друга, ровными да стройными стоят на отшибе молодые. Постоят-постоят, да и
сломятся. А коряжная старость в сумрачных душных густотравных околках бережно
холит всем колхозом свою культяпую, но помнящую и крепкую смену. |