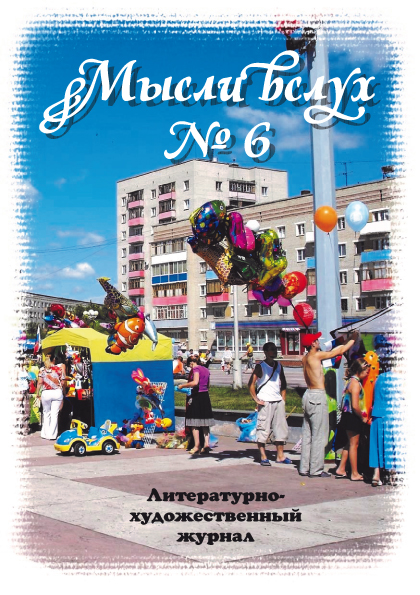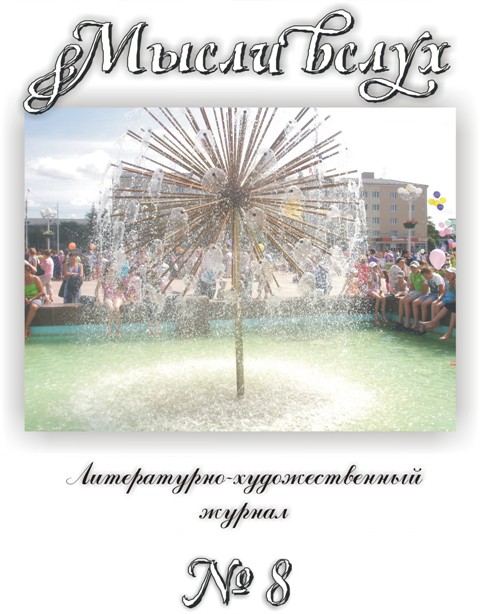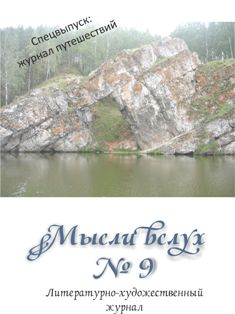1.
Шёл четвёртый год войны. Войны без пуль и
взрывов, но от этого не менее тяжёлой, мучительной, а главное – бессмысленной.
Я – предводитель той армии, что добровольно ввязалась в боевые действия, я же и
единственный её представитель. Противник у меня тоже только один. Итак,
наступает выход главной героини лирического повествования!
Ирина, как и я, недавно разменяла 243-й месяц жизни.
Это девушка... Нет, не моей мечты, ибо последней у меня никогда не имелось. Она
не блещет красотой, но в толпе однокурсниц выглядит словно ландыш, скромный,
тихий, но необыкновенно милый среди огромного букета шикарных, дорогих роз,
самодовольных пионов, красивых, но неароматных гвоздик и пустых, ветреных одуванчиков.
Её длинные золотистые волосы
собраны то в шишку, то в косу, но легко представить, как роскошно они струятся,
ниспадая ей на высокую грудь, когда Ирина расчёсывает их утром или вечером!
Её карие глаза, усиленные
сверху узкими точёными бровями, смотрят на мир через очки, отчего немного
грустны; зато на ресницах она запросто удерживает по четыре спички.
А фигура?.. Её пропорции и
осанка просто идеальны – насколько я в них разбираюсь, и насколько одежда
позволяет о них судить. Женственность, изящество, скромность и эрудиция чётко
выделяют Ирину из среды голубоглазых брюнеток, зеленоглазых длинноногих
блондинок и прочих, по их мнению, красавиц, хотя макушкой своей она едва
достаёт мне до подбородка.
Пожалуй, зря я взялся за
словесный портрет, ибо ни кистью, ни словом рисовать не умею. Но можно
предположить, насколько скучнее и однообразнее станет жизнь, если все начнут
делать лишь то, что умеют.
Мы познакомились на первом
курсе, в колхозе. Судьба свела нас не только на одном факультете, в одной
группе, но и на одной улице. Свет её окон на первом этаже я отчётливо мог
видеть из своей общаги. А на втором месяце знакомства и началась война. Война с
Ириниными страхами.
Обзор читательских писем в
каком-нибудь «душеспасительном» журнальчике обязательно покажет, что
разногласия между влюблёнными – не редкость. Причины тому находятся разнообразные:
дурные манеры, измена, просто разочарование. В нашем случае причиной стала чрезмерная
благовоспитанность. Настолько чрезмерная, что любые публичные проявления моего
внимания постоянно натыкаются на бронированный занавес из одной фразы, тихо
произносимой дрожащим голосом: «Мне страшно: вдруг кто-нибудь это неправильно
поймёт?».
Именно из-за этого Ирина в
колхозе сначала сама пыталась таскать вёдра с картошкой, пока я не предложил [если не сказать, навязал] помощь. Именно
поэтому она не хотела в столовой садиться со мной за один стол и уж тем более
боялась пойти вечером в клуб на кинофильм.
Правда, в этой войне иногда
случались и победы. Но они оказывались незначительными и столь редкими, что
никогда не оправдывали затраченных сил, терпения, доброты и понимания. Ещё в
колхозе мы сходили-таки в кино; и на лекциях нынче всё же сидим рядом. На втором
году знакомства, будучи дома, я получил, наконец, ответ на свои письма [«Но если бы отец узнал, что Я пишу ТЕБЕ, он
бы не упустил возможности снова напомнить, что порядочные девушки парням писем
не пишут...»].
На третьем году из моих уст
прозвучала та извечная фраза, которая у англичан звучит как «Ай лав ю». В тот
же момент те же слова еле слышно слетели с побледневших губ Ирины, готовой
брякнуться в обморок от страха. Тогда же, по закону композиции, произошёл и
первый поцелуй. Тем вечером я крупно ошибся в планах: просто не ожидал, что
ответное признание последует так скоро. Но не ошибся в другом: целоваться нам
ох, как понравилось! И позднее, когда заканчивалась шестая пара, мы стали
задерживаться в аудитории, чтобы на несколько мгновений утонуть в объятиях друг
друга и, слившись в поцелуе, ещё раз повторить те три слова.
К сожалению, времени всегда
в обрез: вечером Ирину в холле института встречает отец, иначе ей пришлось бы
одной идти впотьмах триста метров до дома. Несчастная девушка и в мыслях не
допускает, чтоб я её проводил; ей не даёт покоя весь ужас, о каком подумают
соседи, если увидят Ирочку С парнем!
Потому-то война и длится
столько лет. Потому-то всю большую перемену Ирина просиживает в аудитории [«Порядочной девушке нечего делать в
общежитии»]. Потому-то мы не видимся во внеучебное время: каждый семестр её
родители узнают расписание и строго следят за временем прихода и ухода дочери.
Я не могу просто позвонить ей вечером и, тем более, зайти в гости, на чашку
чая: родители не подозревают о моём существовании. И главное – что же подумают
соседи?!.
Я понимаю: на ней свет
клином не сошёлся, и никто другой на моём месте не стал бы терпеть столь долго
ради неизвестно чего. Но сердцу не прикажешь, и добавить тут нечего.
2.
Но есть у моей армии два союзника – два друга-соседа
по комнате. Оба они относятся к числу тех людей, которые, к примеру, где-нибудь
в Каракумах, при пятидесятиградусной жаре и вдали от жилья, когда ты умираешь
от жажды и зноя, вдруг окажутся рядом и скажут так ненавязчиво: «Тебе,
случайно, ведро воды не нужно? А то нёс, думал, сгодится».
– Ну как, Паш, сегодня тебе
– дали? – встречает меня вопрос при входе в комнату.
– Чего – дали? – угрюмо
спрашиваю в ответ.
– Ну, известно чего –
проводить домой, – съязвил Стелькин.
– Ох, Вась, не сыпь соль!
Нет настроения шутить!
– А попробуй разбить рукой
бутылку или отожмись разиков сто, – предложил Вася.
– Точняк, – вставил Володя
Поваров. – Мóзги хорошо прочищает и гормоны выводит. Их у тебя сейчас мно-ого!
Эх, братцы, знали б вы, как
я устал страдать! Четвёртый год вместе, а она даже предкам не сказала. Мне
твердит, любит и жить не может. Чего ж ты, говорю, с родителями не хочешь познакомить?
Так она чуть не плачет: ну как я им скажу, так вот прямо подойду и заявлю?
Живут, поди, как враги: всё от всех в секрете, и не дай бог, кто что плохо
подумает! Такое редкостное воспитание получила Ирочка! Это батёк её расстарался
– он же директор школы…
– Ученичьё б своё дебильное
так воспитывал! – удручённый безрадостными думами, я не заметил, как начал
мыслить вслух.
– Паш, не переживай так
сильно! Давай-ка лучше пивка выпьем, – Стелькин извлёк из-под стола аж пять
пузырей «Жигулёвского».
Безграничная доброта –
единственное качество, объединяющее всех моих друзей, независимо от времени и
места нашей первой встречи – только очень добрые люди могут ужиться с моим
несносным характером, оставаясь при этом друзьями.
– Ну, Паш, чтоб у тебя всё
там наладилось, – Поваров поднял стакан.
– Нет, Володь, не надо. Она
не стόит нашего первого тоста. Первый – как всегда: слава нам! – и над
серединой стола глухо звякнули от столкновения три стакана, позаимствованные в
своё время в ближайшей столовой.
После опорожнения полутора
бутылок мозг глубоко погрузился в какой-то гипотетический дурманящий раствор.
И, как обычно в подобном состоянии, все проблемы и заботы стали мелкими и не
достойными переживаний.
– В конце концов! – я с
силой стукнул дном бутылки по столу. – Если гора не идёт к Магомету, то...
– Пра-ально, Паш, – вставил
Вовик. – То Магомет гору обойдёт!
– То Магомет к горе пойдёт!
– поправил Стелькин. – Ты вроде выпил-то один стакан, а уже ерунду порешь.
– Братцы, это я к тому, что
если она не зовёт меня в гости, значит, надо самому явиться.
– Точно, Паш, ты сам зайди к
ней. Она там, небось, ждё-от, тоску-ует, по ночам в поду-ушку плачет. Заодно и
с ма-амой познакомишься, и с па-апой.
– Ага, – отвечаю. – А после
этого буду лете-еть аж до сáмой обща-аги...
– Зачем же лететь? Мы тебя
подстрахуем, – смеясь проговорил Стелькин.
– Погоди, погоди... Точно!
Надо сделать так, чтобы родители сами узнали обо мне! Братцы, поможете?
– Помнится, мы как-то на
Петров день шухарили у себя на посёлке, – начал Вовик.
– Ну-ка, ну-ка, расскажи
скорее...
3.
Завтра была среда – первое
апреля. Первый прикол подкинула природа: глядя на увесистые сугробы и прыщавое
небо, можно подумать, что наступило первое декабря.
В институте царило
нездоровое оживление. У преподавателей оказывались белыми спины, студентов
отчисляли, награждали, вызывали в ректорат, отправляли в колхоз и т.п. Даже
после занятий на доске объявлений ещё висело несколько листиков.
Поздравляем Кожерова М.В. с защитой докторской
диссертации!
Остроумно! Миша окончил
институт только в том году, в аспирантуру провалился, зато гонору – на
десятерых хватит.
Всем студентам срочно сдать по пять рублей на
реставрацию памятника Циолковскому.
Это старó, вывешивается
ежегодно в течение последних лет двадцати.
Желающим привью любовь к учёбе. Обращаться в ректорат.
Смело кто-то прикололся.
Внимание! С сегодняшнего дня вводится плата за посещение
туалетов в корпусе.
А это – в духе времени…
– Кому деньги сдавать, Паш,
не знаешь? – Ирина подошла с кошельком в руках. Бедненькая! Она так и не
научилась понимать шутки!
– Ирочка, – я обнял её за
талию. – Ты дату видишь? Сегодня ж день-то какой?
– Какой? – бровки сдвинулись
в задумчивости. – Паш, Паш, не надо, здесь же ходят, – на щёчках выступил румянец.
– Первый апрель – никому не
верь, Ирочка, поэтому пусть ходят, я не запрещаю, – мои губы легонько коснулись
розовой щёчки, которая моментально залилась ещё гуще.
– Пашк...– Ирина словно
резко прикусила язык. – Разве так шутить можно? – её недовольный взгляд снова
устремился на объявления.
– Как? Тáк, что ли? – я
опять поцеловал девушку. – Никто не шутит!
– Нý тебя, бесстыдник! – она сделала попытку надуть губки.
Засопев, я отвернулся и
громко зашептал:
– Ой, сердитые мы сегодня,
всё. Всё, мы сегодня разозлились. Не троньте нас, а то по шее схлопочете...
Здрассте, Дмитрий Сергеич! – это я поздоровался с вышедшим преподом и продолжил:
– Ходят тут всякие деды старые, только сердиться мешают. У-ух!
– Па-ашка... – проговорила
Ирина, беря меня под руку. Представляю, как крепко в мыслях она сейчас меня
обнимает!
– Ир, сегодня праздник, – я
начал примирительным тоном. – В общаге дискотека будет. Пойдём?
– Па-аша, ты же знаешь: меня
не отпустят, – она шмыгнула носом так жалобно, что я обязательно раздумал бы
расстраиваться, случись это хотя бы в сорок третий раз. Но сегодня был уже
1179-ый дубль этого дурацкого спектакля!
– А ты спрашивала? – сказал
я, почти не надеясь на успех очередной атаки.
– Пустая трата времени...
Она оказалась права: время,
действительно, тратилось впустую. Глазки – вниз, бледнеющие щёчки – слегка
надуть. Так, губки – сердечком, носик – часто сопит, голосок – чуть слышный.
– Ну, хоть до дома-то тебя
провожу? – продолжал я.
– Паш, не надо, прошу. Вдруг
увидят?
Господи, за что мне всё
это?!
– Ктó увидит, Иринушка?
Прохожие? Ну так что? Чего ты боишься? Или кого? – трус тот, кто сдаётся без
боя, чёрт возьми!
– А соседи что скажут?.. Они
же могут подумать, что между нами есть близость!
– Для тебя так важно мнение
соседей? Если они и следят за тобой по пятам, то увидят, как я довёл тебя до
подъезда, чмокнул в щёчку и пошёл назад. Кому и что они скажут страшного? Вообще,
давай, это мы подумаем, что близость есть – между ними!
– Пожалуйста, не надо
язвить… – она еле двигала губами. – Думаешь, мне самой – легче? А родители если
узнáют?..
– Ну и хорошо! Я – высокий,
красивый и скромный, понравлюсь им обязательно.
– Паш, давай не будем...
Мама не переживёт, если я скажу, что заходила в общежитие! Её здоровье мне – дороже!
Результат этого боя оказался
неоригинальным: на шикарных ресницах
заблестели брильянтовые капельки. Моя реакция новизной тоже не отличалась:
– Ирочка, И-ирочка,
ми-иленькая, ну не на-адо так…
«Нет, чёрт тебя подери, я
сегодня обязательно что-то устрою! Если не лично, то заочно о себе заявлю, увидишь
завтра сама!!!», – с такими мыслями я нежно гладил Ирину по лицу и целовал в
глаза.
– Хотя бы до раздевалки
проводить тебя можно? – прозвучал голос побеждённого.
В ответ её губы быстро,
словно тайком, коснулись моих.
– Прикинь, целуемся с тобой
перед дверью деканата! Чем не романтика? – сказал я, когда мы спускались по
лестнице.
4.
– Порядок, Паш! – Вовик стал
распаковывать какой-то здоровенный свёрток.
– Купили? Ай, молодцы!
Сколько?
– Как и собирались: десять
метров, – Поваров показал моток капронового троса толщиной в палец.
– И ещё три литра, – добавил
Стелькин, выгружая из сумки шесть бутылок «Жигулёвского».
– Тогда пойду готовить ужин,
– я подхватил нож и миску. Господи, как прожить эти три часа до одиннадцати?
Руки чесались, в груди стучал азарт, и невозможно усидеть на месте.
В общаге тоже царило
оживление. Студентов сегодня и выселяли, и на субботник собирали, и постельное
бельё стирать заставляли. Эти и подобные объявления украшали этаж.
Пока мы ужинали и
прибирались в комнате после ужина – началась дискотека. Полчаса помелькав в
скопе пляшущих, пошли «на дело».
– Сначала вяжем двери на
втором этаже, потом – на первом. Нож взяли? – Вовик давал последние указания.
Стелькин ещё раз нащупал нож
в кармане, я разместил моток троса на плече под курткой.
– Хватит нам? – спросил
Вася.
– Должно хватить, – ответил
Поваров.
У меня почему-то исчез весь
азарт, зато появился страх.
– Ребят, мож, не надо?
– Да ты что! На-адо! Боязно?
Ничего-о! Прикинь, её батёк завтра на работу через окно вылезать будет, – начал
успокаивать Вовик. – Да за это все его ученики нам только спасибо скажут!
Вместе с коллегами.
Иринин дом, считай, в двух
шагах от общаги. Её, небось, в пединститут-то отправили только потому, что
ходить близко, а то соседи плохое подумают. Двухэтажное здание времён культа
личности светило несколькими окнами в темноте старого проходного двора. По три
квартиры на этаже.
Войдя в просторный, но
грязный, подъезд, Вовик первым делом выключил свет. Затем, ступая тише, мы
поднялись на второй этаж и молча привязали ручки трёх дверей к перилам.
Теперь – самое главное:
первый этаж и квартира номер три. Конечно, можно было привязать только её, но
тогда утром на помощь пришли бы пресловутые соседи, а у Ирины появилась бы
почва для подозрений.
Чёрт, откуда эта дрожь в
руках? Приматывая трос к шершавому чугуну перил, я внезапно подумал: а что,
если кому-то из жильцов взбредёт сейчас вернуться домой? Или наоборот, выйти на
свежий воздух, едва я возьмусь за ручку? Зато если всё удастся, завтра утречком
я как бы ненароком загляну сюда и освобожу Ирину из плена.
Вдруг – о, боже!!! – словно
гром, словно выстрел, в двери третьей квартиры щёлкнул замок. За двадцать минут
до полуночи! Вот! Сам накаркал! Что делать, что делать?.. Мои мысли походили
сейчас на картины абстракционистов. За то мгновение, что мы были в шоке, дверь
открылась, обнажив тусклый угол света, и Иринина мать вышла на площадку. Мы
вжались в стену. Я успел отбросить кусок троса, один конец которого был уже
зафиксирован.
– Опять шпана свет гасит, –
мать уверенно и неумолимо направилась к выключателю.
Ещё четыре секунды, и она
нас увидит. Тогда путь к Ирине мне будет заказан. Ну уж нет! Вот я сейчас с
мамой-то поговорю! Да и дружков подставлять негоже.
Женщина, не дойдя двух шагов
до цели, остановилась и прислушалась. Выйдя из светлой квартиры, она не могла
нас разглядеть, зато мы давно адаптировались к темноте. Вот она отворачивается,
протягивает руку... Время действовать пришло. Сейчас я подойду к Тамаре Станиславовне,
извинюсь, вежливо поздороваюсь и скажу – честно и прямо, – кто я такой, и какое сильное и глубоко
искреннее чувство заставляет меня находиться в данном месте в столь неурочный
час. Верю, что эта неглупая и добрая женщина обязательно поймёт меня и сжалится
над моей истерзанной душой! Вот я уже подхожу к ней, вот открываю рот...
– НЫ НАДА СВЭТ! ДЭНГИ ДАВАЙ!!
И РАЗДЭВАЙСА, ДА ПХАБЫСТРЭЕ!!!
От такого голоса меня самого
прошиб озноб. Я и не знал, что умею так жутко говорить. Оцепенение длилось долю
секунды. Спотыкаясь о собственные тапки, бедная женщина ринулась к спасительной
[в большей степени – для нас] двери.
– Володя, Володя! – вопила
перепуганная мать. – Деньги грабят!..
Дверь моментально
захлопнулась, защёлкали все замки одновременно. О том, как, очевидно, спавший
Володя [тот деспотичный Иринин отец]
вникал в суть происшедшего, было слышно, наверно, всему дому. Напоследок я
стукнул в дверь кулаком несколько раз.
– Так ты пошкорей давай! Я
шавшем жамержаю ждешя! – невероятным фальцетом завизжал Поваров, отступая к
выходу. Прижимаясь к стене дома, пригибаясь под окнами, мы дошли до угла и
пустились наутёк. Никогда ранее так охотно я ещё не бегал!
Окошко нашей комнаты
светилось: уходя «на дело», мы специально оставили лампу включённой. Так, на
всякий случай. Только в комнате, раздевшись, смогли отсмеяться.
– Ну, ты маладэ-эсь! –
сказал Стелькин, давясь табачным дымом. – Спас всех нас.
– И с мамой заодно
пообщался, – добавил постанывающий Вовик. – А уж девку-то, небось, перепугал насмерть!
– Мне кажется, её теперь и
днём одну никуда не выпустят, – проговорил я. – Да, не довелось мне её завтра освободить...
– Ерунда, что-нибудь ещё
придумаем, – с готовностью ответили друзья.
– Ох, братцы, что б я без
вас делал!
– Да ладно, ладно тебе.
Включи-кась лучше музыку...
5.
Утром в восемь часов нас
разбудила вахтёрша.
– Павел тут есть? К
телефону. Говорят, срочно.
– Межгород, бабуль? – у меня
нехорошо похолодело внутри.
– Не, кажись, местной.
– Чей голос? – я натягивал
штаны.
– Женской.
Господи, что ещё
случилось?..
– Да! – говорю в трубку,
готовый к самому худшему.
– Паш, Паша, это Ирина.
Доброе утро!
Опаньки! На какой-то горе
завёлся свистящий рак!
– П-привет, Ирочка! Что
случилось?
– Пожалуйста, не задавай
сейчас вопросов, я расскажу всё позже, – её голос дрожал, бедная, небось, ночь
не спала.
– Хорошо, не буду. А ты что,
только за этим звонила?
– Нет, Пашенька, ты сейчас
не мог бы зайти за мной? В институт вместе пошли бы... |