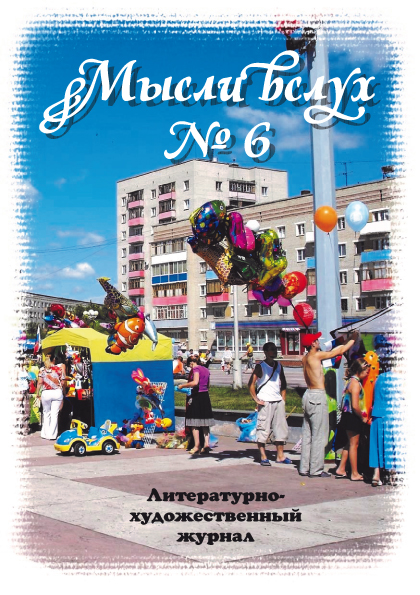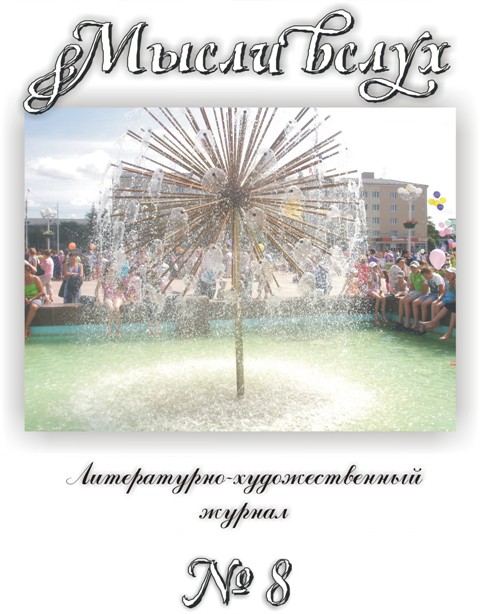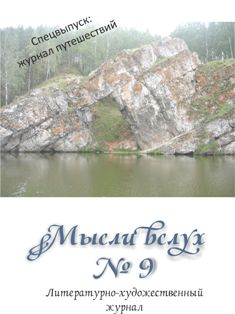Он был когда-то на Камчатке, но всего один раз. Перестройка еще только начинала шевелиться, обкомы КПСС правили областями с жесткостью татарских темников, и приезд скандального поэта был воспринят как политическая провокация.
Информация о литературном вечере в ДК Рыбаков появилась в одной лишь газете, на последней полосе, мелким шрифтом. Но зал оказался забит битком. Люди, собравшиеся послушать стихи, в основном не знали, что днем раньше Евгений Александрович был в журналистском клубе, приехал с опозданием – летал в Долину Гейзеров, там с егерями, а потом и с пограничниками накатил казенной спиртяшки (время-то было горбачевское, безалкогольное!), - а журналюги уже гудели возмущенно, настраивались на скандал. Он это понял сразу, поэтому начал не отвечать на вопросы, а читать стихи – тут же, с порога. Вот он – Евг. Евтушенко! Поэт.
Полуподвал журналистского клуба никогда не вмещал в себя единомоментно столько народу, а тут еще подвыпивший поэт - модная рубаха в петухах от Кардена, читает, бузит, блестит перстнем с крупным блестящим камнем («Брюльник, брюльник!» - прокатился шепот), а он еще курит, роняя пепел на свои стихи.
Тогда вышел его сборник «Последняя попытка»:
Последняя попытка быть счастливым,
Последняя попытка полюбить!
Он женился в очередной раз на молодой женщине, это подогревало желание коллег наговорить ему гадостей. А Евтушенко читал свой северный цикл, видимо, считая, что камчатской публике это близко:
Она была первой, первой, первой
Кралей в архангельских кабаках!
Она была стервой, стервой, стервой
С лаком серебряным на коготках.
Когда она павой, павой, павой
С рыжим норвежцем шла в ресторан,
Муж ее падал, падал, падал
На вертолете своем в океан.
Журналисты перешептывались, им хотелось новенького, а я, лишь недавно дезертировавший из умирающей геологии в эту тусовку, сидел и думал, что они не понимают, не чувствуют – насколько он прав. Да я сам недавно падал в вертолете, и это длилось невыносимо долго! Падал, падал и падал, и лопасти рубили заснеженные березы, и облако снега повисло, искрясь, в воздухе, и обломки лопастей, вращаясь, улетали пока еще только в небо, и бортмеханик что-то орал раззявленным ртом.
Потом кто-то начал говорить Евтушенко приготовленные гадости, что-то типа:
- Вы, любезный Евгений Александрович, то укусите власть, то лизнете ее, вы уж определитесь, кто вы!
- Вы вначале сделайте для российской литературы хоть десятую часть того, что я сделал, а потом сможете задавать подобные вопросы! – привычно отбивался Евтушенко.
- Да хватит вам! Почитайте еще что-нибудь, Евгений Александрович! – кричали из задних рядов.
И он снова читал. Странно, но запомнилось не то – что он читал, а как он это делал. Он то гремел так, что все невольно отшатывались назад, то переходил на зловещий шепот, и тогда публика загипнотизировано тянулась к нему.
Видимо почувствовав, что его декламационное мастерство, мягко говоря, превалирует, он сбился, но тут же рассказал байку о том, как он написал поэму «Мама и нейтронная бомба», но ни один из журналов не захотел ее печатать. Тогда он поехал на автомобильный завод ЗИЛ, и там устроил перед рабочими премьеру поэмы. Под шквальные аплодисменты. Но когда он рассказал об этом в редакции, там пожали плечами:
- Женя, ты мог бы декламировать и телефонный справочник! Тебе все равно бы хлопали.
Под конец его заметно развезло, есть такое свойство у спиртяшки – попьёшь водички, и снова пьяный по второму разу. Пограничники, появившись из засады, увели его, объявив, что литературный вечер в ДК Рыбаков состоится при любой погоде.
И опять не все знали, что за час до его выступления, Евтушенко должен провести заседание местного литературного объединения со странным названием «Земля над океаном». Мы ждали его в рыбацкой гостиной, где стоял большой стол, тяжелые стулья и кожаные кресла вдоль стен. Похоже, «рыбные генералы» бывали здесь частенько со своими гостями, место было удобное, смежное с буфетом.
Он пришел вовремя – трезвый, по-деловому сухой, в узеньких очках, поверх которых он часто бросал быстрые, словно фотографирующие все и всех, взгляды.
Коротко поздоровавшись, он предложил собравшимся литераторам почитать:
- По два или три стихотворения? А? Если, конечно, они не очень длинные…
- А прозаикам по одному роману, только быстро! – пошутил руководитель литературного объединения поэт Евгений Сигарев, который на этот раз сидел скромненько в сторонке, сложив руки на животе.
- Нет, прозу читать не будем! – сказал сухо Евтушенко. Как говорится, шутка не прошла.
Мы начали, запинаясь, он сидел, рисовал чертиков. С рогами. Было непонятно – слушает ли вообще, или борется с желанием лечь вот на этот большой, мягкий кожаный диван и поспать после вчерашнего.
Но потом про Евтушенко как-то забыли, собственные ритмы, рифмы и рифмочки настолько захватили пишущую братию, что они начали токовать, как глухари в мае – распустив хвосты и крылья, кружась по талому снегу, надувая горло от избытка чувств. И я – вместе с ними.
- Все? – спросил Евтушенко, когда поток рифмованных слов иссяк.
- Все! – сказали ему устало.
- Ну-с, приступим…
И он начал говорить. Нет, нас не пытались выдрать принародно, унизить, или, спаси Господи, научить – Евтушенко просто рассуждал о стихах. При этом он цитировал без ошибки куски из наших опусов по восемь-двенадцать строчек, лишь иногда путаясь в местных экзотических реалиях.
Я думал, что он меня похвалит, так это часто бывало. А Евтушенко отметил хорошие строчки, пожурил - за скверные, а потом вдруг спросил:
- А вы прозу писать не пробовали?
Это было обидно. Я любил его больше всех современных поэтов, я читал его вслух со сцены, а он… Да я писал, как он – в том же духе, а дружеского похлопывания по плечу сегодня удостоились те, кто писал под Пастернака и Мандельштама. «Он что – сам себя не любит?» - думал я, разозлившись.
- Да, я пишу прозу! – сказал я не без вызова. – И ее печатают во всесоюзных журналах без всякой протекции. А еще я пишу сценарии, очерки, фантастический роман вот закончил!
- Это хорошо! – сказал Евтушенко с неожиданно мягкой улыбкой. – Ребята, мне не пора на сцену? У кого часы есть, а то я с вашим камчатским временем все никак освоиться не могу?
На сцену давно уже было пора идти. Зал гудел, и это было слышно сквозь толстые стены рыбацкой гостиной. Мы пошли провожать его, я провел через закулисье, потом бегом вернулся в зал, - нас, как местных литераторов, ждали места в первом ряду.
И он снова начал читать. Уже давно отгремели вечера в Политехническом, уже в России не поэты, а политики, маги и целители собирали целые стадионы, а он все читал, стараясь вернуть себя и нас в то, счастливое, время. Он камлал, как корякский шаман, бил в бубен рифм, вводил в транс ритмами. И опять – то гремел, то шептал по-Мефистофельски, заставляя напрягать нас слух, нервы, души.
Время, отведенное на выступление, вышло, появился перед сценой некто в сером, показывающий на часы. Евтушенко прочитал еще три стихотворения на бис, хотя микрофон уже выключили, потом прижал руку к сердцу и резко ушел куда-то за кулисы, где и выхода-то не было.
Я быстро поднялся на сцену и нашел его среди пыльных полотнищ – потного, вымотанного, ничего не понимающего старого человека.
- Выведите меня отсюда! – почти взмолился он. – И дайте воды.
Пройти к выходу из этого лабиринта можно было только через сцену, я повел его, зал снова взорвался овацией. Евтушенко вырвал свой локоть из моей руки, молодцевато подбежал к рампе, одним движением остановил аплодисменты и крикнул уже без микрофона:
- Товарищи! У кого есть мои книжки, я готов их подписать! Я буду… - он обернулся ко мне.
- В рыбацкой гостиной, - подсказал я.
- В той комнате, которая у вас называется рыбацкая гостиная! – объявил Евтушенко.
Народ за автографами выстроился в очередь. Нас опять, как местных литераторов, попросили обеспечить порядок. Поэт шутил, спрашивал имена, черкал быстро в книжках, иногда удивлялся: «А вот этой книжки даже у меня не осталось! Мгновенно тираж разошелся!» Один раз отказался расписываться в потрепанном блокноте:
- Так вы скоро меня заставите на автобусных билетах расписываться! – сказал он громко.
Я под шумок подсунул свою книжку. Из библиотеки.
- Евгений Александрович, так ведь нет в магазинах ваших книг! – начала жаловаться любительница поэзии. – Я бы, конечно, купила!
- О! Библиотечная… - сказал он. – Со штампом! Вот видите, молодой человек украл книгу. Я тоже воровал в молодости книги в библиотеках. Вот ему я подпишу, а вам в блокноте – нет. Так, кому пишем? – спросил он у меня.
- Евгений Александрович, это же я… - вырвалось у меня совершенно беспомощно. – Я же читал вам свои стихи, я вас из-за кулис выводил…
- Да, я помню! – сказал он, наклонив голову. – Назовите имя!
- Павел Панов!
- Пишу! Павлу Панову: главное, это отразить себя и время. Евгений Евтушенко.
Это уже походило если не на литературное благословение, то, по крайней мере, на рекомендацию. Обида тут же прошла. Над этим стоило подумать.
Вечером, за бутылкой у Лёни Баташева, как всегда, разговорились.
- Да он же литературный выскочка! - насмешливо блестя очками, говорил хозяин. Жена его была директором библиотеки, и он всегда выступал от имени интеллигенции. – Он же себе биографию придумал!
- Не понял! – признался Витька Шелопугин. – Объясни неграмотному парашютисту.
- Ну, он же сибиряк. Приехал из Иркутской области, со станции Зима. И распустил слух, что он внебрачный сын Хрущева! И все журналы начали его печатать наперебой!
- Сплетни! – сказал я, закусывая. – Если он в чем-то погрешил, так это в том, что со товарищи, с Вознесенским и Рождественским убили и расчленили Маяковского.
- Слушай, не надо под руку, а? – поперхнулся водкой Шелопугин. – Я хоть и дуб дубом в литературе, но я и понимаю, что все они родились гораздо позднее, чем умер Маяковский. Или нет?
- Чем отличается столица Камбоджи от парашютиста? – спросил ехидный Баташев.
- Чем же? – встал в боксерскую стойку Витька.
- Столица – Пном Пень, а ты у нас пень пнем. Пей водку и слушай!
- Да, я допускаю, что здесь не было пошлого сговора – сели ребята вот так же на кухне, взяли собрание сочинений Маяковского и поделили – тебе, Вознесенский, весь его экспериментальный блок, тебе, Рождественский, весь ура-советский, а тебе, Евтушенко – всю лирику… - начал рассуждать я вслух. – Возможно, это было сделано интуитивно, но зато хорошо попало в государственную струю общепринятой, разрешенной поэзии.
- Ну, сделали, и молодцы! – сказал Шелопугин, наливая. – Я из школы помню, у нас, в России, есть эти… литературные завещания. «И в гроб сходя, благословил!»
- Вот и тебя, мой друг, благословили! – подначил меня Баташев. – Только задачка-то невыполнимая: «Отразить себя и время». Тут с собой-то разобраться все времени нет, а уж со временем… времени… короче, выпьем, запутали вы меня.
- Выпьем! – согласился я. – А помните, как он сказал на встрече в клубе журналистов: «После нас вот уже несколько поколений студентов не дали ни одного поэта национального уровня».
- Да, а я тогда крикнул: «А Рубцов?» - напомнил Баташев. – А он: «Хорошо начал, да мало прожал». А я снова: «А Юрий Кузнецов?» - А он: «Да это же… вурдалак какой-то!»
- Почему «вурдалак»? – опять не понял Витька.
- Ну, есть там строчки… Евгению Александровичу не понравилось: «Я пил из черепа отца», хотя… мой отец, что хочу, то с ним и делаю! – вмешался я.
- Да пусть люди пишут! Пусть книжки печатают! Хватит нам друг друга душить-то! – сказал Витька.
- Правильно! – согласился я. – Пусть даже делают это, поделив на части Маяковского. И памятники им надо поставить на той же площади, только по углам.
- Четвертого не хватает! – сказал Витька, который всегда просчитывал в голове все варианты, прежде чем согласиться. - Четвертым будешь?
- Вряд ли! – вздохнул я. – Он мне прозу посоветовал писать.
- Да кто нас спрашивает! – рассердился Баташев. – Решат вон там, наверху, в небесной канцелярии, и будешь картины рисовать! Маслом.
Картины маслом рисовать я начал спустя пять лет, от тоски, в Америке. Меня и точно никто не спросил – хочу ли я это делать. |