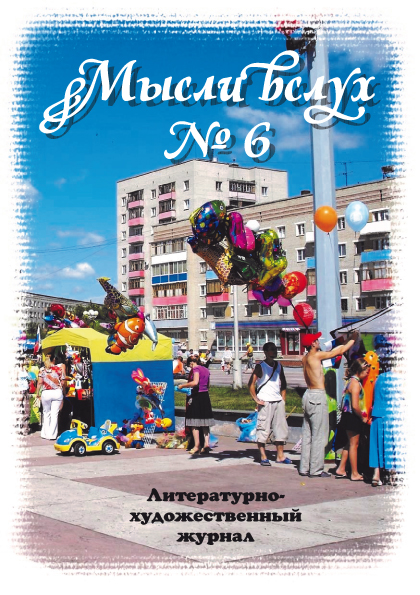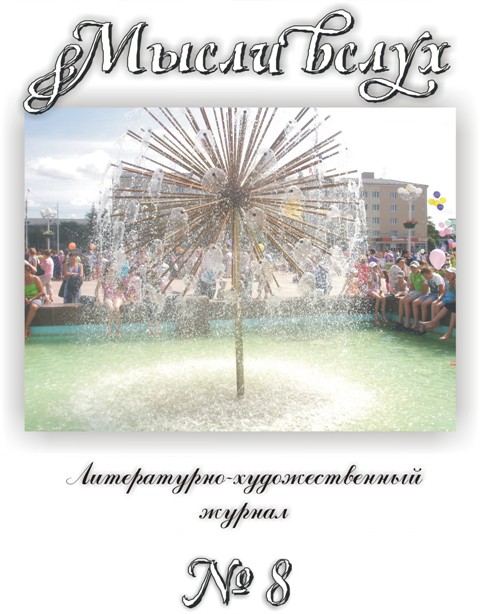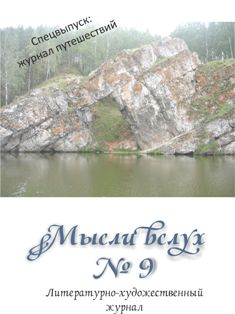В конце апреля корякском селе Кинкиль, и в самом деле, ждали делегацию американских индейцев. С утра зазвонил телефон, из краевой администрации сказали: «Едут!» и предупредили: «Подготовьтесь!». А тут, как на грех, небеса скурвились и все инструкторы-помощнички застряли на полдороге по разлетным прибрежным аэропортам.
В поселковой администрации, прокуренной, как коптильный цех госпромхоза, заседали вторые сутки подряд. Глава районной администрации, по-американски говоря, мэр по фамилии Мерилов, начальник милиции капитан Зыков и директор оленеводческого совхоза Тутышкин – сидели, измаявшись.
Положив осторожно трубку (названивали пятый раз в день), Тутушкин поправил прокуренные пшеничные усы и сказал:
- Распорядились: думать своей головой. Думать! Не исключено, говорят, товарищи, что эти самые индейцы не только с сотрудниками краевой администрации пожалуют, а кто-то еще из Совета Федераций будет.
- Да-а… Не было печали… - в очередной раз вздохнул Мерилов и потер потную желтую лысинку.
- Тэ-эк! – энергично поиграл мускулами загорелого лица капитан Зыкина. – Что сделано? Оба бульдозера помойку убирают? Убирают! - Самосвал я отрядил – снег возить, грязь засыпать… Может, если солнца не будет, дня три продержится…Это раз. Заборы школьники красят? Красят! Это два. Склады открыли, дефициты достали? Достали! Это три.
- Я же сказал: «Пока ничего не продавать!» - возмутился Мерилов. – Кто распорядился?
- А никто и не продает. Но разложить товар нужно, чтобы люди к нему привыкли, - слегка снисходительно пояснил Зыков. – Это я распорядился.
- К тому же Сан Саныч, нехорошо – на материке в магазинах – цивилизация, а у нас – сплошной застой социализма. Одни пустые прилавки. Соль да спички. Еще вот маска для фехтования на полку приблудилась. Ее бабка Ительнаут все хотела купить – муку просеивать, да стоит дорого!
- Ладно… Чего еще-то сделано?
- Семьи Ковевтегиных и Коллеговых из землянок выселили, отправили в табун.
- И угораздило же их в мае приезжать! Ехали бы в январе – красиво, чисто, все в кухлянках, бисером расшитые…
- Ну и все! Чего еще там? – подвел итог Зыков. – Не английскую королеву встречаем. Индейцев! Их там из резервации, из-за колючей проволоки выпустили на месяц, вот и пусть радуются. Не бойсь, накормим!
- Это вы бросьте! - вмешался вдруг Тутышкин, и на него все посмотрели удивленно. - Кто едет-то? Представители племени сиу – так, кажется. Я тут учительшу попросил литературу подобрать, почитал… Так вот, они землю свою государству американскому продали, деньги в банк положили, а на проценты колледж построили, пацанов своих трем языкам обучают: английскому, французскому и родному... суиянскому. Они, которые охотники, на сезон лицензии получают, на отстрел бобров. Сейчас не помню – вроде даже по сотне штук… Да, бобер-то подороже соболя будет.
- Ты, друг мой ситцевый, что-то опять напутал! – поморщился Зыков. – Когда это бобер дороже соболя был? Я этой пушнины на материк… мешками… Двадцать лет… А ты мне здесь будешь!
- Так было написано! – упрямо сказал Тутышкин.
- Напутал ты что-то…
- А еще, говорят, у них болезнь профессиональная – глухота. От моторов всяких. Ну, чего смотрите?
- Ты, Егор Назарыч, не ихней рекламой занимайся, а о деле думай! – жестко сказал Мерилов. – Пока ты им дифирамбы пел, я пометочки на бумаге делал. Трем языкам учат? У нас тоже трем: русскому, английскому и корякскому.
- Даже – четырем. Еще – матерному, - захохотал, хлопая себя по коленям, Зыков.
- Оставь, Николай Алексеевич… Шутки ему. Техника у нас тоже есть. Техника у нас тоже есть: мотонарты «Буран», рации, да на одни вертолеты сотни тысяч тратим! Ты вместо того, чтобы восторгаться, выводы делал бы – урок корякского языка организовать… показательный, дать радиограмму в табун, чтобы все три «Бурана» пригнали, пусть в поселке постоят… ненавязчиво.
- Они без приводных ремней там.
- Свои ментовские ремни отдашь, Зыков! – рубит воздух рукой Мерилов.
Они замолчали, задумавшись. Слоистый дым плавал по комнате и Тутышкин, чувствуя себя виноватым, помахал ладошкой, перемешивая его. Потом сказал:
- Видели вчера индейцев-то? Я видел. Чего вы так вылупились? Я спрашиваю - видели их вчера в новостях по телевизору? Из Якутска был репортаж. Краснокожие все, горбоносые и мужики - с косичками. Снимают все на видео. И что интересно – бабы с ними и ребятишки в этих… в пончо.
- Ну!?
- В Магадан теперь едут.
- А как товарищи их местные встречали – не сказали?
- Если бы сказали – тогда все просто было бы!
- Праздник нужен, - поделился своей мечтой Мерилов, - в национальных традициях. «Уйкоаль» бы сюда, ансамбль наш краевой…
- Хватил! «Уйкоаль» в Париже теперь гастролирует.
- Стоп! – Мерилов даже привстал и так припечатал крепкой ладонью по столу, что телефон подскочил. – У нас же есть этот… Кеша. Уркочан. Он же в «Уйкоале» выступал, по заграницам ездил. Где он сейчас?
- У меня в совхозе работает, - как-то странно сказал Тутышкин. – Тракторист, ну и – на вездеходе…
- Ну-ка, сюда его! Где он? В табуне? А? Зыков! Чего жмуришься?
- С Уркочаном дело особое, Михаил Ильич, - веско сказал капитан Зыков, - Он сейчас под подпиской о невыезде, возбудили уголовное дело.
- Ты чего мелешь-то? Чего вообще раскомандовался? – возмутился Мерилов, и его пухлые щеки затряслись. – Он мне нужен как… этот... а он: «де-ело!» Тебе распоряжение из краевого центра – это так, тьфу? Освободить немедленно! Он что - пьяный был, подрался?
Зыков встал, одернул китель. Глядя перед собой, раздельно отчеканил:
- Иннокентий Уркочан задержан за браконьерский лов рыбы и так же подозревается в незаконном переходе государственной границы.
- Какой границы? Ламутского национального округа, что ли? Да сядь ты, объясни по-человечески!
Зыков сел, все еще обиженный.
- Ну, рассказывай.
- Помните, он зимой пропуск на Чукотку оформлял?
- Да, говорил – к дядьке, в Анадырь.
- Так точно, вчера из Анадыря бумага пришла – у его дядьки обнаружен иностранный винчестер. На нем клеймо: «1985г.». Я сделал обыск у Уркочана, нашел точно такой же и два цинка патронов к нему. Спрашиваю: «Где взял?». А он мне ванечку валяет: «От дедушки Икавава наследство, еще со времен концессий…». А клеймо «1985г.»?
- Как так? А пограничники?
- Звонил я туда. Ругаются. Собачки у них, говорят, беленькие, сами в кухлянках беленьких, в пургу через Берингов пролив по торосам – шасть! – пригнувшись, а задержат – чуть в ноги не падают: «Ай, спасип-па, нацальник, сап-сем заплудились». И что интересно – в совхоз звонить начинают, а там все местные кадры, круговая порука: «Ехал к нам, однако, сдавать пушнину, отпустите».
- Как же они, не зная языка?
- Да родственники у них там.
- Вот что, Зыков, - сказал поучительно Мерилов. – Нужно уметь извлекать пользу из любой ситуации. С «Уйкоаль» по загранице ездил? Сейчас через пролив к индейцам шастал? Значит, с иностранцами общаться умеет. Конфискуй винчестер, а самого давай сюда, потолкуем.
- Уже… конфисковано… - уронил раздельно два слова Зыков, выходя из кабинета.
Мерилов встал, открыл форточку, потом достал из тумбочки чашки и заварку.
- Однако цай пить бут-тем, - сказал он, умело подражая местному акценту.
Тутышкин подсел к столу, потирая ладони.
- А чего его из ансамбля поперли, не рассказывал? - спросил Мерилов, когда самовар заворковал ласково.
- Да ну его! Пацан он тогда был, да и баламут к тому же, - отмахнулся Тутышкин.
- А все же! – настойчиво спросил мэр Мерилов. - Мне надо знать своих людей, как считаешь?
- В Америке он отличился. В Нью-Йорке. А может, в Чикаго. Выдали им деньги на всю поездку в валюте, где-то по сто долларов и предупредили: мол, осторожнее - преступность у нас, стащить могут. А эти доллары – портянки здоровые, не то, что наши рубли. В новые джинсы не лезут, в чемодане оставлять страшно. И что придумал хитрый коряк - в грязные носки спрятал и под койку закинул. Среди ночи с концерта приезжают: носки постираны, поглажены и записка на английском языке. Они перевели: "Благодарю за щедрые чаевые".
- Уй...уй…уй… - Мерилов смеялся, прикрыв лицо ладонью. - Он думал, как у нас: придет уборщица, окурки из углов выметет, да пустые бутылки вынесет и все! Так за это и погнали? 3а глупость?
- Он, Михал Ильич, скандал устроил. Я - свободный человек, кричал, я могу хранить деньги, где хочу!
- Вон, ведут этого свободного…
Они выглянули в мутное окно. По грязной улице поселка, между поко¬сившихся домиков, мимо пустых юкольников мягкой походкой шел молодой коряк, заложив руки за спину, его, преисполненный обязанностями, конвоировал Зыков. Ветер с Охотского моря подталкивал их в спину, а с Востока, со стороны тундры, вставало огромное остывшее в море солнце.
В кабинет Уркочан вошел, морщась от дыма, остановился - стройный, высокий, черные волосы жесткой гривой падали за спину, смуглое лицо его было невозмутимо.
- Садись, Иннокентий! - предложил строго Мерилов.
- Однако, зидесь сит-теть бутем, - решает Уркочан, устраивается у стенки на корточках, ловко подвернув под себя ноги. – Здесь дыму меньше.
- Садись к столу, Кеша, тебе сказано! - прикрикнул капитан Зыков, и Кеша легко поднялся, танцующей походкой прошел к столу, легко сел и спросила хмуро, без всякого акцента:
- Зачем вызывали?
- Понимаешь, Уркочан, делегация индейцев едет. Канадских! - сказал значительно Мерилов и поднял толстый палец. - Встретить надо ваших сородичей.
Кеша сидел, скрестив руки на груди, в его смуглом лице ничего не изменилось, только тонкие ноздри вздрогнули, когда еще один слой дыма, изгибаясь, проплыл мимо его лица, к форточке.
- Нужно праздник устроить, - сбоку подсказал Тутышкин.- Или нечто необычное…
- Уркочан, это шанс для тебя загладить вину, - заметил сзади Зыков. - Но ты не думай, что такой незаменимый! Было бы сейчас другое время, лето, допустим, охота, рыбалка, шашлыки на природе - обошлись бы без тебя.
- Охота и сейчас есть, - сказал равнодушно Кеша.
- Да какая сейчас охота! Ни гуся еще, ни утки… Куропатки пресные, как… березовые щепки.
- Медведи уже поднялись, - продолжая глядеть в окно, обронил Кеша.
- Вот, ты же все знаешь! – азартно хлопнул себя по коленкам Мерилов. – Эта мысль как-то нам в голову не пришла! Молодца! Во-первых, риск, пусть у них индейские кровя взыграют… во-вторых, мясо - нажарим из него национальных блюд, бифштексов там всяких… в-третьих, шкура, она сейчас у него аж лоснится… в-четвертых, Праздник Медведя можно устроить, это когда череп на шесте выставляют, горячую кровь пьют и кричат вот так: "Кух! Кух!".
- Ну, вот артист! – Кешу все начали трепать по плечу. - А говоришь: «н-ня знаю!» Давай, дальше думай! Праздник нужен!
- Да зачем праздник-то? – скривил тонкие губы Кеша. - Пусть посмотрят нашу обычную жизнь.
- Ну, вот ты мне тут начинаешь, - слегка осердился Мерилов. - Жизнь, смерть… Стоп… Стоп!
Многие напрасно считали Мерилова болтуном. Конечно, иногда он заборматывался, но именно в эти минуты к нему приходили самые любопытнейшие мысли. Просто жил человек далеко от областных центров - сам себе начальник, речевой аппарат не ограничивал и за эмоциями не следил - так ведь для пользы дела! Вот и сейчас - его мягкое лицо сладостно расслабилось, глаза округлились, пшеничные усы опустились сосульками… Кеша, прищурившись из-под набухших век, внимательно следил за ним.
- Похороны… - ласково сказал Мерилов. - Корякский обряд сожжения… Экзотично, впечатляюще… как у древних греков! И пусть знают – мы тоже блюдем традиции!
- Так это… - кашлянул в кулак капитан Зыков, - Покойничек нужен.
- Я не знаю, но… бабка Ительнаут… на подходе, - осторожно подсказал Тутышкин, промокнув платочком вспотевшую лысину.
- Ну, так как, Уркочан, возьмешься организовать? - резко спросил Зыков.
- Однако, не хоцу… - уже совсем закрыв узкие глаза, равнодушно ответил Кеша.
- Имей в виду, тебе две статьи корячатся. За незаконный переход границы и хранение нарезного огнестрельного оружия, - резко, не шутя, предупредил Зыков. - Лет десять намотаешь. Подумай, Уркочан. Давать ход делу или нет - это нам решать.
- Это же твой национальный обычай, - навалился на него Мерилов. - Вы же, коряки, сами упрашивали не препятствовать, не мешать… - Он говорил торопливо, все больше заражаясь своей идеей. Те, кто давно знали мэра, старались в такие минуты с ним не связываться, уже было проверено - никакие силы природы его не остановят, разве что звонок из краевой администрации.
- У нас на побережье уже лет пятнадцать не сжигали, -сказал, наконец, Кеша. - Я еще пацаном был, когда запрещать начали, еще тогда тайно в лес уносили, там жгли... Я видел на костровищах колокольчики обгорелые, бисер оплавленный… И все.
- Ну, вот... ну, видел... Поспрашиваешь у стариков...
- Решено! – хлопнул тяжелой ладонью по столу Мерилов. - Итак, что мы имеем? Встреча: хлеб-соль… когда от "вертолетки" до поселка поедут - сопровождаем на "Буранах" и упряжках… типа: почетный эскорт. Потом - короткий митинг, обед, посещение цеха народных промыслов и показательного урока корякского языка. Затем везем их в табуны. Егор Матвеевич, ты распорядись, кстати, чтобы поближе к поселку откочевали... Там, будто бы, на табун нападет медведь, и надо, понятное дело, отстрелять его. Отстреливаем и устраиваем Праздник Медведя. Затем возвращаемся в поселок и там, если бог примет душу бабки Ительнаут, устраиваем национальный обряд похорон. Все! Завтра утром в этом же составе собираемся здесь. Пока там эти индейцы с чукчами общаются, мы у себя успеем подготовиться. Все, свободен, Уркочан!
Они его отпустили, и Кеша, не удивившись, пошел домой. Никто не знал, что лет десять назад в Иннокентия Уркочана, вселилось другое существо, можно сказать, божок. Должно быть, он походил лицом на застывшую маску корякского идола - лица он своего не показывал, а смотрел на мир сквозь узкие кешкины глаза, наблюдал. Все эти пять тысяч лет, пока дрались племена и народы и расползались по поверхности планеты материки, он бродил по Земле - то в одном поживет, то в другом поселится, - пока не нашел этого молодого коряка. Он был мудр, этот безымянный божок всех северных людей, вечен - поэтому не знал страха, много видел, отчего давно перестал удивляться. Он пришел из тундры, где холод, голод и смерть так же естественны, как смена времен года, но даже ему была до сих пор непонятна людская жестокость, а вместе с ней непонятна человеческая природа. Может быть, где-то в теплых краях людей можно понять - им тесно, но в тундре всегда была свобода. Но почему-то и здесь не было счастья. Чтобы понять это, тундровый божок вот уже десять лет жил в молодом коряке Уркочане.
И все это время - и на французской сцене "Олимпика", и на изломанном льду Берингова пролива, и в кабинете мэра Мерилова - смуглое гибкое тело Кешки могло лететь в праздничном танце "Норгали", или вжиматься в торосы под шарящими прожекторами, или, сжатое усилием, оставаться неподвижным, - сморщенный тундровый божок наблюдал за человеками. Люди были уверены - это они зрители! они загонщики! они вершители судеб! - а маленький старый идол только глаза щурил. И не было предела этому терпению – неужели, за пятьдесят пять тысяч лет, испробовав пять разных способов сосуществования, ты не изменился, человек? Почему?
Кешу отпустили до утра. И за это время в Кинкиле случилось сразу три несчастья. Днем, при разгрузке самоходной баржи, посыпался штабель строевого леса и задавило насмерть Сеню Тальпичана, вечером умерла бабушка Ительнаут, а ближе к ночи, на вездеходе геологов прикатил богатый турист с материка Лев Назарыч.
В маленьком поселке все - свидетели и соучастники событий - и эти три несчастья не прошли мимо Кеши. Но сперва он, отпущенный для подготовки праздника, пришел в холодный свой дом и завалился спать - нырнул в олений кукуль, зарылся с головой, быстро согрелся в его нутряном, меховом тепле, уже начал задремывать... Но тут закричала, захлебываясь плачем, соседка, тетка Анна - он очнулся, соображая. Хлопнула, как от пинка, калитка и во дворе, хрустя хрустальными скорлупками изморози, зачастили шаги - так люди ходят, когда вместе несут что-то тяжелое. Он выглянул в окно - на куске брезента несли его друга Колю Толмана. Мужики - там были русские и коряки - от усердия и растерянности топтались, мешали друг другу, и от этого сенькина голова покачивалась на натянутом полотнище, словно он, мертвый, мотал головой от боли.
Кеша стоял у окна, сгорбившись. Он хорошо разглядел - снизу, под спиной друга брезент почернел и промок, и сейчас он себя уговаривал: от воды талой, не от крови, нет! - и тундровый божок сердился на него за это.
Потом Кеша торопливо оделся и пошел к соседям. Сенька уже лежал на топчане - с запрокинутой головой, оскаленными зубами. Грудь у него стала впалой, раздавленной, и от этого плечи казались удивленно-приподнятыми, словно он тоже не переставал удивляться. Тетка Анна, исхудавшая за последнее время, совсем старая корячка, сидела у сына в ногах и тихонько выла, раскачиваясь взад-вперед, Кеша подошел - люди расступились - и поправил другу голову. А когда его ладони коснулись холодных щек покойника, и он увидел узкие бельма закатившихся глаз, - то выпрямился, и вдруг, неизвестно откуда взявшимся уверенным движением поднял руку и двумя пальцами осторожно замкнул другу взгляд.
Хлопнула дверь, и в дом, согнувшись - низкая была комнатка - вошли Мерилов, Зыкин и Тутышкин. Тетка Анна на минуту примолкла, глянула на них дико, а потом, измаявшись, снова уронила голову, и белые жесткие волосы закрыли ей лицо.
Начальство потопталось рядом с мертвым, покашлило сочувственно в кулаки.
- Вот, значит, как…
- Да, понимаешь ты, елки-палки...
- Анна Апельковна, примите наши соболезнования. Совхоз полностью берет все расходы на похороны.
- Спасип-па, - еле слышно шевельнулись губы старухи.
И они отступили к выходу, скрипя половицами. И стоило им только выйти, как тетка Анна протянуло иссохшие руки, прижалась головой к Кеше:
- Иннокентий...
- Все сделаю, тетка Анна, - тихо сказал Кеша, прислушиваясь к разговору под окнами.
- Во парень! Не то, что бабка Ительнаут... Такого одеть в нарядную кухлянку... - И дальше не было слышно, ушли начальнички. А потом вернулись, брякнули в окно. - Уркочан, срочно зайди в контору, нужен!
В конторе Мерилов объявил:
- Завтра собирай своих коряков у конторы, будем праздник репетировать. Ну, ты знаешь - танцы-шманцы, друга своего с гитарой позови.
Утром, когда начальство отсовещалось и вышло, покуривая, на крыльцо, Кеша махнул рукой – и началось!
Тут же национальный ансамбль «Тумгутум» заколотил в бубны, девушки в цветных кухлянках закричали, подражая чайкам: «Ка-ай! Ка-ай!», парни поддержали ритм: «У-у! А-хай-я!! У-у! А-хай-я!!» Мелькали в бешеном танце кухлянки, и вот уже сам Кеша взлетел к небесам, подбрасываемый на медвежьей шкуре и хохотал до слез, до истерики.
Потом вышел местный бард, спел свою балладу о шамане и другую, с поправкой на русское восприятие, где рифмуются коряки и собаки, каяки и балыки. |