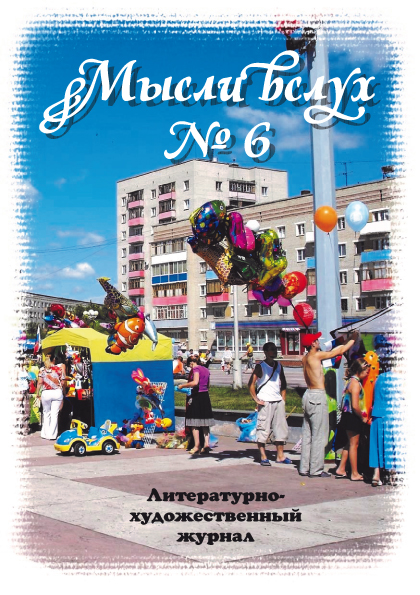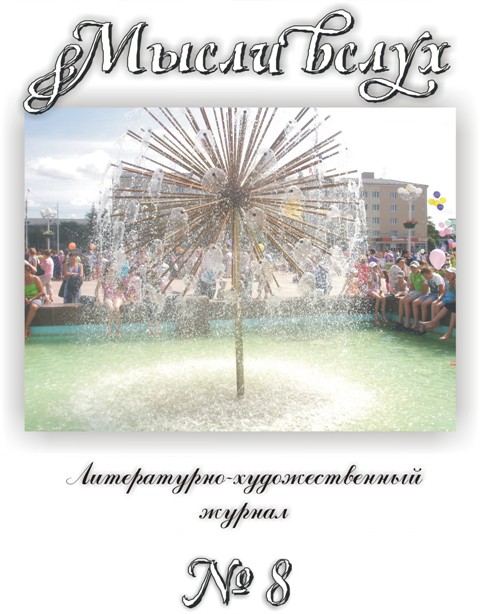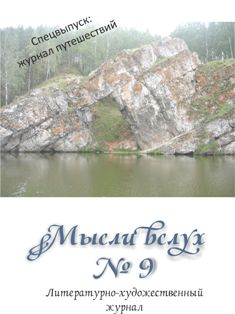Кеша огляделся. На крыльце конторы рядом с начальством, постукивая шикарными башмаками со шнуровкой, стоял незнакомый толстый мужик. Пухлая капроновая куртка - красная снаружи, синяя изнутри была расстегнута до пупа, под ней виднелся свитер грубой вязки. На загорелой, породистой физиономии сияли лейблами солнцезащитные очки, на плече болтался кожаный кофр как у фотографа.
Мерилов, Зыков и Тутышкин уже трясли ему по очереди руку, а он восклицал:
- А? Какая фактура! Рай, рай для киношника!
Откуда-то из-за угла вдруг вывернулись две собаченции - короткохвостые, с квадратными, щетинистыми морда¬ми - яростно тявкая, бросились на Кешу. Он, удивившись, продолжал идти, но шавки, оглядываясь на крыльцо, кидались, припадая на передние лапы.
- Майкл! Джерри! - закричал мужик в пуховке. - Назад! А? Каково? Фокстерьеры - с ними, брат, не шути! С ними - на львов! А раньше… плантаторы… - он понизил голос и на крыльце все вежливо стали похохатывать. - Да-да, их сейчас, правда, афроамериканцами зовут…
- Вы так и путешествуете с собачками?
- А? Что? Друг человека. Дорого, черт подери, за двоих, как за полноправного гражданина, вон, как за него, платить приходиться. Майкл! Джерри! Сидеть!
И псы уселись, подрагивая верхними губами, показывая острые зубки.
- Что ж мы на улице, - округло развел руками Мерилов.- Зайдем, однако, поцаюем… В смысле чаю попьем.
- Поцаюем! - захохотал мужик, и они затопали по крыльцу, махнув Кеше рукой - давай за нами. И он вошел, встал у дверей, прислонившись к стенке.
- «Уйкоаль», сказале? – гудит басом мужик. - Видел, видел их в Штатах. И, знаете, что самое забавное - местные дамочки в бинокли смотрят: «О, бютифул, рашен фоксес!» - русские меха им больше всего понравились. Значит, ты там тоже гастролировал, артист?
- Был, - коротко ответил Кеша.
- Ну, а здесь как все сделаем? Если получится удачная съемка - слава на весь бывший Союз, глядишь, на сцену вернешься. Ну, расскажи, как ты видишь этот… обряд погребения... через сожжение? – спросил киношник.
- Не знаю, - бесстрастно сказал Кеша.
- Ну, и прекрасно! Чего удивляешься? Прекрасно, что не знаешь! Ты думаешь, канадские индейцы что-то про это знают? Вряд ли среди них будут этнографы. Значит, надо сделать так, чтобы это просто хорошо смотрелось.Самим придумать!
- Вы, Лев Назарыч, прям как подарок судьбы нам, - встрял в разговор Мерилов.
- Ты мне, Кеша, общие моменты освети. У одних народов плачут, у других - радуются, когда к "верхним людям" - так кажется? - провожают. А у вас как?
- Однако, радуются мало-мало… Водка пьют - ой, как шибко! - разъяснил Кеша и еще больше прищурился.
- Радуются! – развеселится Зыков. – Я бы на их месте тоже радовался, что ухожу из этой поганой жизни.
- Так! Молодец! А боги у вас какие? – продолжил мысль киношник.
- Кутха! Ворона такая.
- Этого добра здесь навалом. А танцевать ваши люди смогут?
- Маленько смогут... Водка будет - все плясать пойдем.
- И насчет этого, я думаю, договоримся. Значит, так. Я уже вижу это. Панорама тундры, вечные снега... Печальные односельчане заходят в чисто прибранный дом бабки Ительнаут... выносят ее на носилках, сплетенных из веток кедрача, поднимаются с этим горестным грузом в гору, а чайки кричат, прощаясь... А люди спокойны и сосредоточены. И вдруг бог Кутха, пролетая над корякской матерью, вскрикивает и замертво падает к ней в костер! И огонь тогда вспыхивает сам по себе, и веселье начинается!
- Очень это... колоритно, - сказал, вздохнув, Мерилов, - Ну, значит, два дня на подготовку и послезавтра все воспроизводим для фильмопроизводства.
- Как - послезавтра? - удивляется Кеша, - А бабка Ительнаут?
- Все в порядке. Бабка сегодня богу душу отдала. Сразу за Толманом. Дружка твоего для индейцев побережем, полежит пока в холодильники госпромхоза рядом с балыком, а с бабкой потренируемся, кино снимем.
- Вы мне, мужики объясните – почему у них фамилии такие разные? – спросил любознательный киношник. – Бабка Ительнаут. Звучит! Экзотика! Друг его – Толман, похоже на английскую фамилию. А еще слышал здесь Косыгины, Пановы живут.
- Все просто. У бабки родовое корякское имя, нехристь, стало быть. Косыгины, Пановы – их здесь целые поселки, раньше – стойбища. Крестили оптом, подходил корабль к берегу, а у них поселки в основном в устьях реки были, русские сходили на берег, сгоняли всех коряков до кучи, корабельный поп крестил, давал, как правило, фамилию капитана, - объяснил эрудированный Тутышкин.
- А Толман?
- Так тут же кого только не побывало – и японцы, и американцы! Эти места Ленин тоже продать американцам хотел, как царь раньше Аляску.
- Вот я и говорю: по крови они невесть кто, а национальные лимиты на лосось получают как коренные жители! – поддакнул Зыков. – А я, попадись с рыбой или с икрой, так и погоны, глядишь, потеряю!
- Ладно, вернемся к нашим… корякам. Значит, понял, Иннокентий? Завтра репетируем обряд с бабкой Ительнаут. Я был у нее, успел поговорить. "Нацальник, делай как знаешь!" - вот ее слова. Родственники тоже не возражают. Вопросы есть?
Кеша молчал.
- У меня вопрос, - кашлянув, вступил капитан Зыков. - Насчет бога Кутхи. Как это он, вскрикнув, сам по себе в костер угодит?
- Ну, что вы, братец! - смеется киношник. - Образа не понимаете? Главное - образ, а остальное - дело техники. Неужто у вас не найдется стрелка, что подобьет ворону влет? Будут же они над костром летать! Обязательно будут! Да вот, хотя бы наш артист. Сможешь?
- Однако надо попробовать, - скромничая, сказал Кеша.
- Ну! Так давай, попробуй! Такое оружие тебя устроит? – Лев Назарыч кивнул в угол, где на оленьих рогах уже висела его новенькая бельгийская двустволка.
- Ет-та можна, - сказал Кеша и вдруг подмигнул им всем.
Они вышли на крыльцо. Киношник держал ружье стволами вверх, капитан Зыков страховал его сзади.
- Вон, ваши Кутхи сидят...
По старым, корявым березам черным нашествием сидели вороны, их было много, может быть, тысячи.
- Заряжено? - спросил деловито Кеша, примеряясь.
«Черное воронье, оно отличается от мудрого юконского ворона, живущего триста лет - бога Кутхи - так же, как шелудивый пес - от тундрового волка», - сказал ему на ухо тундровый божок. «Знаю!» - нетерпеливо отмахнулся Кеша.
- Давайте, однако, стрельну!
- Так и дурак попадет. Ты влет попробуй! - И киношник пронзительно свистнул.
Воронье снялось с деревьев, привычно закружилось над поселком, разоряясь. Потом эта черная стая свернулась в тугую спираль, начала раскручивать ее в небе.
- Теперь стреляй! - Кешке сунули в руки "бельгийку", и он уже приложился, собираясь залепить дуплетом, как тут собачки-фокстерьеры выскочили из-под крыльца, с истерическим лаем кинулись на коряка. Кеша перехватил "бельгийку" и дважды выстрелил по ним с бедра.
Кобелишка сразу мордой в грязь ткнулся, а сученка покрутилась еще, волоча на перебитом хребте кургузый зад.
И тут же Кешу схватили за локти, вывернули из рук оружие, сбили с ног, начали бить ногами.
- Ты! Ты!! - орал киношник, багровея. - Ты мне за всю жизнь за них не расплатишься! У них родословная богаче, чем у тебя, выродка! Да я тебя....
Кеша вдруг вскочил, обиженно оттолкнул начальников, отошел и развел руками:
- Однако, пошто кричишь, начальник? Бедные сап-пачки, уроды. Нарту таскать не могут, на мишку ходить не могут, олешка охранять не могут. Морды страшные, квадратные… Зачем такие нужны? Убил, чтоб не мучались. Бедные... уродливые сап-пачики…
С минуту они молчали, продолжая бешено глядеть на Кешу, а потом Лев Назарыч вдруг оглушительно расхохотался.
- Каково?! А?! Чист и наивен, как настоящее дитя природы. Нет, вы послушайте: "Олешков охранять не могут..." Каков анекдотец? Ладно! За это не жалко! Будет, будет, что рассказать в Москве!
Он спустился с крыльца, взял собак за болтающиеся лапы, стараясь не измазаться кровью, утащил их за угол, к ближайшей помойке.
- Бедные вы мои, элитные ублюдки... И нарту вы таскать не можете, и мишку держать не можете... Вот и кончили так по-дурацки. Будет, будет, что дома порассказать.
Вечером Кеша пошел в дом, где жила бабка Ительнаут.
Пару раз ему навстречу попадались сопливые ребятишки, тащившие бутылки с водкой, а так поселок был пуст, даже собаки куда-то исчезли. Но откуда-то, похоже, что со стороны клуба доносились редкие удары бубна.
На полянке, бывшей когда-то клумбой, кружком сидели коряки. Одеты они были почти нарядно, по концертному – отплясали свое на репетиции, получили аванс, да и - в магазин, за водкой. Тут же и сели выпивать. Кухлянки из оленьего камуса, что расшиты бисером, были извозюканы грязью, торбаса промокли от дорожной слякоти. Пара бутылок, уже пустых, валялись на траве, третья бутылка водки гуляла по кругу. Пьяная старуха время от времени принималась бить в бубен, выкрикивать залихватски: «Ик! Ик!» Увидев Иннокентия, она беззубо заулыбалась:
- Нымылгив елкивик, тумгутум!
- Ну-ну! – сказал на всякий случай Кеша. – Поговори мне!
- Добро пожаловать, товарищ! Больше по-корякски я ничего не знаю, однако, - пояснила старуха. – Обрусачилась… сука.
Кеша сунул руки в карманы, набычился.
- Надолго загуляли, земляки? – спросил он у своих сородичей.
- Если нам по тысяче дали, то это… если скинуться… бутылок тридцать в день, - посчитала старуха.
- То есть – в запой на месяц?! – удивился Кеша.
- Больше! Мы со ста граммов - в грязь пьяные. А потом еще на брагу перейдем…
- А к тому времени и канадские индейцы домой уедут, и даже наша путина уже закончится! – нехорошо усмехнулся Кеша. – До осени пить будете?
- Ик! Ик! – вдруг снова заколотила в бубен старуха и коряки, глядя на нее блаженными, по-детски преданными глазами, начали что-то выделывать в воздухе руками, какой-то танец.
- Это вы почему, сидя на жопе, танцуете? – сердито спросил Кеша. - Обычай такой? Почему не знаю? Или новый танец? Как называется? «Новый Норгали»?
- Просто сил нет встать! – засмеялась старуха. – Не «Норгали», а ноги не держат.
Кеша, ругаясь, начал поднимать своих сородичей. Они падали, хохотали.
- Гады, вставайте! Нажрались опять… - чуть не плача, закричал Кеша.
- Кеша! Друг! Не прис-та-вай… Выпей, вон еще водка у нас осталась…
- Где?! – и Кеша Уркачан схватил бутылку, бросил ее в стенку клуба, полетели осколки, но коряки тут же хитро сообщили ему:
- А у нас еще есть!
- Гады! – сказал, размазывая слезы, Кеша. – Повалить вас всех, в уши нассать и заморозить!
- Не-е… Не получится заморозить, однако. Лето! – резонно заметили коряки. – Нет, не замерзнет.
- Не хочу я с вами… Один буду жить! – закричал Кеша.
- Не сер-тись, однако… Кеша!
Кеша плюнул, пошел от них по улице, почти побежал. Его ждали в доме бабушки Ительнаут. В окне у них мелькала свеча, шевелись тени - старые корячки и русские старухи собирали подружку: кто-то белые торбаса дошивал, кто-то причитал, по-архангельски окая, стекал талый воск со свеч, страшно глядели русские святые с икон. Старушки подошли к Кеше, здороваясь, стараются до руки его дотронуться. Сама бабушка Ительнаут лежала тихая и просветленная, словно вещий сон досматривала. Белые волосы покойницы старухи на пробор расчесали, в руке ее холодной свечку затеплили.
- Тетка Енна... - позвал шепотом Кеша. - Поговорить я пришел. Был у тебя наш-то… Мерилов?
- Был, Иннокентий... - не сразу откликнулась она.
- Тетка Енна... Ты зачем свою мамку сжигать согласилась?
- Богу все равно - кто как к нему попадет, Иннокентий. Коряки попоют, русские поплачут, в огне сгорит или в земле закоченеет, - Она замолкла, уже давно думая о своем.
- И то верно - кладбище-то у нас в поселке плохонькое, весной речка разгуляется, кости вымоет, их потом собаки таскают, - тихо сказала одна из старушек.
- Тетка Енна… Меня делать… все это… заставляют. Страшно мне… не хочу, - признался устало Уркочан, глядя в пол.
- А ты не мучайся, Иннокентий. Мамка перед смертью часто говорила, что раньше-то обычай был лучше нынешнего.
- Спасибо тебе, тетка Енна. Уверенность ты мне дала. А если что не так будет – сразу прости.
- Бог простит, сынок, - ответила за нее круглолицая, чистенькая старушка и посмотрела по-детски ясными и голубыми глазами.
С утра - еще и туман-то толком не растянуло – Мерилов и Зыков зашли за Кешей.
- Пойдем! – скомандовал Зыков.
- Куда?
- С бабкой Ительнаут обряд совершать.
- А что, уже приехали эти… индейцы? – удивился Кеша.
- Что ты опять начинаешь! – взял его за шиворот Зыков. – Мы же тебе объясняли! У нас сегодня вроде генеральной репетиции, чтобы, когда камрады приедут, так все бы без сучка и задоринки прошло.
- Н-не понял! – помотал головой Кеша.- Моя твоя не понимает. Донт ундестенд! Не будем, значит, сжигать? Просто прорепетируем?
- Будем-будем! – пообещает капитан Мерилов.
- А когда индейцы приедут, что делать будем? Еще раз скажите, а?
- А приедут индейцы, так что у нас есть? Дружок твой, Коля Толман! Отошел. Жаль, конечно… Зато, какой парень – орел! Красивый, стройный, одни усы чего стоят! Вождь! Вот он до индейцев в холодильнике, рядом со штабелями балыка полежит.
- Ясно, - медленно сказал Кеша и закрыл глаза, и коричневый тундровый божок тут же скорчил ему рожу.
- Дрова для костра твои коряки уже готовят, водку вам со склада выдадут – на сегодня немного, понятное дело, репетиция все-таки… Но, главное, для кино вас снимать будут! Поэтому, как по обычаю положено, веселье быть на лицах должно! – подробно, с удовольствием проинструктировал Мерилов. – Теперь о порядке проведения. Ты вместе со своими коряками с бабкой Ительнаут носилки в гору занесешь и потом, как ворону застрелят, факел в костер бросишь.
- Я и стрелять буду, и факел бросать? – поинтересовался Кеша.
- Не надо! Не надо нам твоей стрельбы! Посмотрели уже. Вон, Зыков стрельнет, ему за это деньги плотют, - И Мерилов погрозил Кеше пальцем.
«Как говаривал один умник, в котором я сто сорок лет назад жил, ничего в человеке не меняется», - нашептал корякский божок Кеше на ухо. - «Люди за пятьдесят пять тысяч лет научились отличать синий цвет от голубого – и только, а так – мало в чем изменились». И когда Кеша, улыбнувшись, сказал:
- Ладно. Посмотрим, что из этого получится! - И этот косоглазый тундровый идол печально вздохнул и отвернулся.
Костер разложили на вершине лысой сопки. Она полого поднималась от поселка, и тропинка петляла между старых и кривых берез. На самой вершине – голой и каменистой, с одиноким, мертвым деревом, похожим на высохшую кость руки, было сухо и даже зелено. Сразу же, от мертвого дерева, гора срезалась обрывом – лишь полоска черного песка и груда отбившихся от горы камней отделяли сушу от шипящего пеной прибоя.
Там, на вершине, и сложили костер коряки. В штабель березовых поленьев набросали корявого березового корья, смолистого кедрача и молодой, кудряво закрученной бересты, а сверху усыпали темно-зелеными листьями рододендронов. Получилось красиво.
Кеша Уркочан нес носилки с телом бабушки Ительнаут, положив жерди на плечи, бессильно опустив руки вдоль тела, так велел киношник. Сзади, где на носилках покачивается белая голова бабушки, держал носилки Мишка Тольпичан, шел, спотыкался, словно от горя, а сам старался дышать в сторону от лица покойницы, которая при жизни часто ругала его за пьянку. Лицо его – охотника и браконьера - почти черное от весеннего тундрового загара, было изодрано шрамами и впрямь смотрелось контрастно рядом с белейшей головой старушки.
Кеша почти не чувствовал веса носилок. От них пахло смолой и хвоей и еще оленьим мехом – бабушка Ительнаут была одета в нарядную кухлянку и вышитые бисером торбаса. Кешу тоже нарядили в кухлянку и торбаса, хотя тропа на вершину сопки оттаяла и подсохла, и длинные черные волосы скрепили на лбу кожаным ремешком.
Рядом крутился толстый киношник, водил бесшумно японской видеокамерой и коряки, привыкшие больше улыбаться под щелканье и вспышки фотоаппаратов, шарахались, когда Лев Назарыч заглядывал им в лица фиолетовым, молчащим глазом «Паносоника».
На вершину горы, куда Кеша еще пацаном забегал, не переводя дух, они поднимались долго – киношник останавливался, снимал панорамы и портреты, «крупняки», ложился прямо на сырую землю, целясь снизу в лица своим агрегатом, а они должны были проходить прямо надо Львом Назарычем, уж стараясь не наступить ему на рожу.
Люди уже ждали на вершине – принаряженные, под хмельком. Лев Назарыч покрутился еще, запечатлевая, даже прогнал из кадра Мерилова, который толкался среди коряков в шляпе и репетировал речь: «Дорогие товарищи индейцы! Или как их там… Достопочтимые господа! А может… Братья по разуму!»
Лев Назарыч поставил всех на край обрыва, снял на фоне моря, потом ему пришла в голову блажь вскарабкаться на вершину сухого дерева – поснимать костер сверху. Мерилов, толкая плечом его в толстую задницу, подсадил, потом передал с уважением дорогую японскую видеокамеру.
- Можно возлагать! – закричал со скрипящей сухары киношник. – Внимание! Мотор!
Кеша Уркочан взял на руки легонькую бабушку Ительнаут и поднялся на костер, ступая по поленьям, как по ступеням. Он положил ее на широкие лапы кедрача, поцеловал в лоб и прошептал:
- Сделай, как я тебя просил…. – потом сбежал вниз, поднял над головой чадящий факел и бросил его в костер.
Пламя взлетело над горой, огонь ручейками разбежался по костровищу, а с океана натянуло ветром – и все занялось в одно мгновение, запластало, окружив пляшущими языками худенькое тело старушки.
- Ворону! А, черт! Ворону забыли! – закричал Мерилов, топорща усы.
К костру полез Зыков с растрепанной как помойная тряпка вороной… Но тут задымилась одежда на бабушке Ительнаут, светлым венцом полыхнули ее седые волосы, и внезапно ее тело судорожно задергалось в огне – люди закричали от страха и попятились к обрыву, а судороги все усиливались, и вдруг покойница села в пламени, вспыхнули остатки волос на лысом, обгорелом черепе и толпа шарахнулась назад, топча друг друга, люди бежали, толкаясь и вскрикивая от этих прикосновений.
Не сразу они и заметили, как от напора людских тел хрустнула и повалилась сухара, а толстый киношник, взвизгнув, полетел с обрыва.
Кеша побежал вместе со всеми, пока не наткнулся на тетку Енну. Заглядывая Уркочану в лицо, она простонала:
- Иннокентий! Что же ты… Жилочки-то… подрезать надо было, тебя же старики учили…
- Так задумано, тетка Енна, - сказал медленно Кеша Уркочан.
Обернувшись, он посмотрел в огонь, в зрачках его плясало пламя, только пламя, и тетка Енна поверила ему: да, так надо было. Она даже подождала – не скажет ли Кеша что-нибудь еще, и он сказал, не отводя сумасшедших глаз от огня:
- Спасибо, бабушка Ительнаут!
А кинооператор Лев Назарыч оказался живой, хоть и с переломанными ногами. Он стонал, закатывая глаза: «Паносоник!» - говорил. – «Паносоник»… Ругался, наверное. Его бесшумную машинку искали всем поселком, да чего там искать – три шага до моря, да и самого его, толстяка, из прибоя, как моржа, вытаскивали. Но в море коряки все-таки заглянули несколько раз, особенно, когда оно поднимало, перекатывая, валы – много там всякой всячины бывает, а этой, с фиолетовым глазом, - нету!
- Однако нырять будешь? – спросили его. – Нет? Ну мы тоже не будем. |